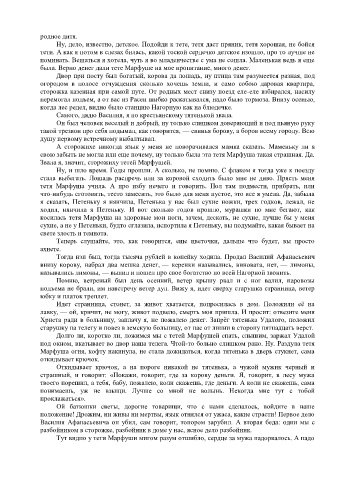Page 295 - Доктор Живаго
P. 295
родное дитя.
Ну, дело, известно, детское. Подойди к тете, тетя даст пряник, тетя хорошая, не бойся
тети. А как я потом в слезах билась, какой тоской сердечко детское изошло, про то лучше не
поминать. Вешаться я хотела, чуть я во младенчестве с ума не сошла. Маленькая ведь я еще
была. Верно денег дали тете Марфуше на мое пропитание, много денег.
Двор при посту был богатый, корова да лошадь, ну птица там разумеется разная, под
огородом в полосе отчуждения сколько хочешь земли, и само собою даровая квартира,
сторожка казенная при самой путе. От родных мест снизу поезд еле-еле взбирался, насилу
перемогал подъем, а от вас из Расеи шибко раскатывался, надо было тормоза. Внизу осенью,
когда лес редел, видно было станцию Нагорную как на блюдечке.
Самого, дядю Василия, я по крестьянскому тятенькой звала.
Он был человек веселый и добрый, ну только слишком доверяющий и под пьяную руку
такой трезвон про себя подымал, как говорится, — свинья борову, а боров всему городу. Всю
душу первому встречному выбалтывал.
А сторожихе никогда язык у меня не поворачивался мамка сказать. Маменьку ли я
свою забыть не могла или еще почему, ну только была эта тетя Марфуша такая страшная. Да.
Звала я, значит, сторожиху тетей Марфушей.
Ну, и шло время. Годы прошли. А сколько, не помню. С флаком я тогда уже к поезду
стала выбегать. Лошадь распречь или за коровой сходить было мне не диво. Прясть меня
тетя Марфуша учила. А про избу нечего и говорить. Пол там подмести, прибрать, или
что-нибудь сготовить, тесто замесить, это было для меня пустое, это все я умела. Да, забыла
я сказать, Петеньку я нянчила, Петенька у нас был сухие ножки, трех годков, лежал, не
ходил, нянчила я Петеньку. И вот сколько годов прошло, мурашки по мне бегают, как
косилась тетя Марфуша на здоровые мои ноги, зачем, дескать, не сухие, лучше бы у меня
сухие, а не у Петеньки, будто сглазила, испортила я Петеньку, вы подумайте, какая бывает на
свете злость и темнота.
Теперь слушайте, это, как говорится, еще цветочки, дальше что будет, вы просто
ахнете.
Тогда нэп был, тогда тысяча рублей в копейку ходила. Продал Василий Афанасьевич
внизу корову, набрал два мешка денег, — керенки назывались, виновата, нет, — лимоны,
назывались лимоны, — выпил и пошел про свое богатство по всей Нагорной звонить.
Помню, ветреный был день осенний, ветер крышу рвал и с ног валил, паровозы
подъема не брали, им навстречу ветер дул. Вижу я, идет сверху старушка странница, ветер
юбку и платок треплет.
Идет странница, стонет, за живот хватается, попросилась в дом. Положили её на
лавку, — ой, кричит, не могу, живот подвело, смерть моя пришла. И просит: отвезите меня
Христа ради в больницу, заплачу я, не пожалею денег. Запрёг тятенька Удалого, положил
старушку на телегу и повез в земскую больницу, от нас от линии в сторону пятнадцать верст.
Долго ли, коротко ли, ложимся мы с тетей Марфушей спать, слышим, заржал Удалой
под окном, вкатывает во двор наша телега. Чтой-то больно слишком рано. Ну. Раздула тетя
Марфуша огня, кофту накинула, не стала дожидаться, когда тятенька в дверь стукнет, сама
откидывает крючок.
Откидывает крючок, а на пороге никакой не тятенька, а чужой мужик черный и
страшный, и говорит: «Покажи, говорит, где за корову деньги. Я, говорит, в лесу мужа
твоего порешил, а тебя, бабу, пожалею, коли скажешь, где деньги. А коли не скажешь, сама
понимаешь, уж не взыщи. Лучше со мной не волынь. Некогда мне тут с тобой
проклажаться».
Ой батюшки светы, дорогие товарищи, что с нами сделалось, войдите в наше
положение! Дрожим, ни живы ни мертвы, язык отнялся от ужаса, какие страсти! Первое дело
Василия Афанасьевича он убил, сам говорит, топором зарубил. А вторая беда: одни мы с
разбойником в сторожке, разбойник в доме у нас, ясное дело разбойник.
Тут видно у тети Марфуши мигом разум отшибло, сердце за мужа надорвалось. А надо