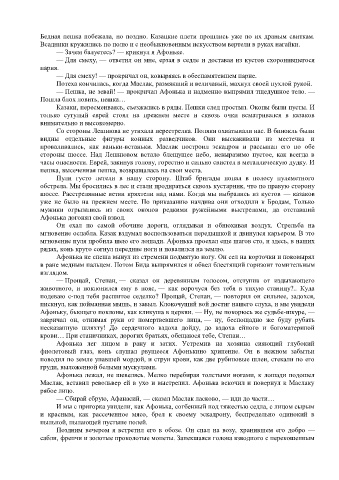Page 35 - Конармия
P. 35
Бедная пешка побежала, но поздно. Казацкие плети прошлись уже по их драным свиткам.
Всадники кружились по полю и с необыкновенным искусством вертели в руках нагайки.
— Зачем балуетесь? — крикнул я Афоньке.
— Для смеху, — ответил он мне, ерзая в седле и доставая из кустов схоронившегося
парня.
— Для смеху! — прокричал он, ковыряясь в обеспамятевшем парне.
Потеха кончилась, когда Маслак, размякший и величавый, махнул своей пухлой рукой.
— Пешка, не зевай! — прокричал Афонька и надменно выпрямил тщедушное тело. —
Пошла блох ловить, пешка…
Казаки, пересмеиваясь, съезжались в ряды. Пешки след простыл. Окопы были пусты. И
только сутулый еврей стоял на прежнем месте и сквозь очки всматривался в казаков
внимательно и высокомерно.
Со стороны Лешнюва не утихала перестрелка. Поляки охватывали нас. В бинокль были
видны отдельные фигуры конных разведчиков. Они выскакивали из местечка и
проваливались, как ваньки-встаньки. Маслак построил эскадрон и рассыпал его по обе
стороны шоссе. Над Лешнювом встало блещущее небо, невыразимо пустое, как всегда в
часы опасности. Еврей, закинув голову, горестно и сильно свистел в металлическую дудку. И
пешка, высеченная пешка, возвращалась на свои места.
Пули густо летели в нашу сторону. Штаб бригады попал в полосу пулеметного
обстрела. Мы бросились в лес и стали продираться сквозь кустарник, что по правую сторону
шоссе. Расстрелянные ветви кряхтели над нами. Когда мы выбрались из кустов — казаков
уже не было на прежнем месте. По приказанию начдива они отходили к Бродам, Только
мужики огрызались из своих окопов редкими ружейными выстрелами, да отставший
Афонька догонял свой взвод.
Он ехал по самой обочине дороги, оглядывая и обнюхивая воздух. Стрельба на
мгновение ослабла. Казак вздумал воспользоваться передышкой и двинулся карьером. В это
мгновение пуля пробила шею его лошади. Афонька проехал еще шагов сто, и здесь, в наших
рядах, конь круто согнул передние ноги и повалился на землю.
Афонька не спеша вынул из стремени подмятую ногу. Он сел на корточки и поковырял
в ране медным пальцем. Потом Бида выпрямился и обвел блестящий горизонт томительным
взглядом.
— Прощай, Степан, — сказал он деревянным голосом, отступив от издыхающего
животного, и поклонился ему в пояс, — как ворочуся без тебя в тихую станицу?.. Куда
подеваю с-под тебя расшитое седелко? Прощай, Степан, — повторил он сильнее, задохся,
пискнул, как пойманная мышь, и завыл. Клокочущий вой достиг нашего слуха, и мы увидели
Афоньку, бьющего поклоны, как кликуша в церкви. — Ну, не покорюсь же судьбе-шкуре, —
закричал он, отнимая руки от помертвевшего лица, — ну, беспощадно же буду рубать
несказанную шляхту! До сердечного вздоха дойду, до вздоха ейного и богоматериной
крови… При станичниках, дорогих братьях, обещаюся тебе, Степан…
Афонька лег лицом в рану и затих. Устремив на хозяина сияющий глубокий
фиолетовый глаз, конь слушал рвущееся Афонькино хрипение. Он в нежном забытьи
поводил по земле упавшей мордой, и струи крови, как две рубиновые шлеи, стекали по его
груди, выложенной белыми мускулами.
Афонька лежал, не шевелясь. Мелко перебирая толстыми ногами, к лошади подошел
Маслак, вставил револьвер ей в ухо и выстрелил. Афонька вскочил и повернул к Маслаку
рябое лицо.
— Сбирай сбрую, Афанасий, — сказал Маслак ласково, — иди до части…
И мы с пригорка увидели, как Афонька, согбенный под тяжестью седла, с лицом сырым
и красным, как рассеченное мясо, брел к своему эскадрону, беспредельно одинокий в
пыльной, пылающей пустыне полей.
Поздним вечером я встретил его в обозе. Он спал на возу, хранившем его добро —
сабли, френчи и золотые проколотые монеты. Запекшаяся голова взводного с перекошенным