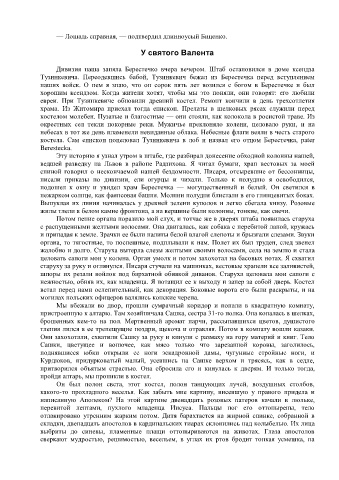Page 37 - Конармия
P. 37
— Лошадь справная, — подтвердил длинноусый Биценко.
У святого Валента
Дивизия наша заняла Берестечко вчера вечером. Штаб остановился в доме ксендза
Тузинкевича. Переодевшись бабой, Тузинкевич бежал из Берестечка перед вступлением
наших войск. О нем я знаю, что он сорок пять лет возился с богом в Берестечке и был
хорошим ксендзом. Когда жители хотят, чтобы мы это поняли, они говорят: его любили
евреи. При Тузинкевиче обновили древний костел. Ремонт кончили в день трехсотлетия
храма. Из Житомира приехал тогда епископ. Прелаты в шелковых рясах служили перед
костелом молебен. Пузатые и благостные — они стояли, как колокола в росистой траве. Из
окрестных сел текли покорные реки. Мужичье преклоняло колени, целовало руки, и на
небесах в тот же день пламенели невиданные облака. Небесные флаги веяли в честь старого
костела. Сам епископ поцеловал Тузинкевича в лоб и назвал его отцом Берестечка, pater
Berestecka.
Эту историю я узнал утром в штабе, где разбирал донесение обходной колонны нашей,
ведшей разведку на Львов в районе Радзихова. Я читал бумаги, храп вестовых за моей
спиной говорил о нескончаемой нашей бездомности. Писаря, отсыревшие от бессонницы,
писали приказы по дивизии, ели огурцы и чихали. Только к полудню я освободился,
подошел к окну и увидел храм Берестечка — могущественный и белый. Он светился в
нежарком солнце, как фаянсовая башня. Молнии полудня блистали в его глянцевитых боках.
Выпуклая их линия начиналась у древней зелени куполов и легко сбегала книзу. Розовые
жилы тлели в белом камне фронтона, а на вершине были колонны, тонкие, как свечи.
Потом пение органа поразило мой слух, и тотчас же в дверях штаба появилась старуха
с распущенными желтыми волосами. Она двигалась, как собака с перебитой лапой, кружась
и припадая к земле. Зрачки ее были налиты белой влагой слепоты и брызгали слезами. Звуки
органа, то тягостные, то поспешные, подплывали к нам. Полет их был труден, след звенел
жалобно и долго. Старуха вытерла слезы желтыми своими волосами, села на землю и стала
целовать сапоги мои у колена. Орган умолк и потом захохотал на басовых нотах. Я схватил
старуху за руку и оглянулся. Писаря стучали на машинках, вестовые храпели все заливистей,
шпоры их резали войлок под бархатной обивкой диванов. Старуха целовала мои сапоги с
нежностью, обняв их, как младенца. Я потащил ее к выходу и запер за собой дверь. Костел
встал перед нами ослепительный, как декорация. Боковые ворота его были раскрыты, и на
могилах польских офицеров валялись конские черепа.
Мы вбежали во двор, прошли сумрачный коридор и попали в квадратную комнату,
пристроенную к алтарю. Там хозяйничала Сашка, сестра 31-го полка. Она копалась в шелках,
брошенных кем-то на пол. Мертвенный аромат парчи, рассыпавшихся цветов, душистого
тления лился в ее трепещущие ноздри, щекоча и отравляя. Потом в комнату вошли казаки.
Они захохотали, схватили Сашку за руку и кинули с размаху на гору материй и книг. Тело
Сашки, цветущее и вонючее, как мясо только что зарезанной коровы, заголилось,
поднявшиеся юбки открыли ее ноги эскадронной дамы, чугунные стройные ноги, и
Курдюков, придурковатый малый, усевшись на Сашке верхом и трясясь, как в седле,
притворился объятым страстью. Она сбросила его и кинулась к дверям. И только тогда,
пройдя алтарь, мы проникли в костел.
Он был полон света, этот костел, полон танцующих лучей, воздушных столбов,
какого-то прохладного веселья. Как забыть мне картину, висевшую у правого придела и
написанную Аполеком? На этой картине двенадцать розовых патеров качали в люльке,
перевитой лентами, пухлого младенца Иисуса. Пальцы ног его оттопырены, тело
отлакировано утренним жарким потом. Дитя барахтается на жирной спинке, собранной в
складки, двенадцать апостолов в кардинальских тиарах склонились над колыбелью. Их лица
выбриты до синевы, пламенные плащи оттопыриваются на животах. Глаза апостолов
сверкают мудростью, решимостью, весельем, в углах их ртов бродит тонкая усмешка, на