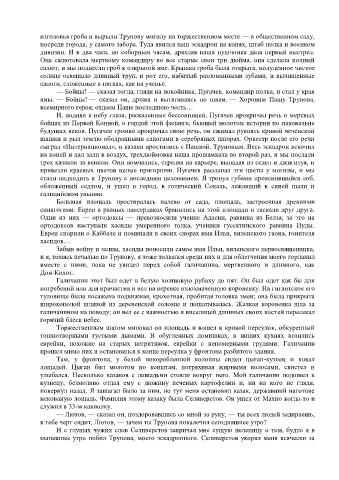Page 39 - Конармия
P. 39
изголовья гроба и вырыли Трунову могилу на торжественном месте — в общественном саду,
посреди города, у самого забора. Туда явился наш эскадрон на конях, штаб полка и военком
дивизии. И в два часа, по соборным часам, дряхлая наша пушчонка дала первый выстрел.
Она салютовала мертвому командиру во все старые свои три дюйма, она сделала полный
салют, и мы поднесли гроб к открытой яме. Крышка гроба была открыта, полуденное чистое
солнце освещало длинный труп, и рот его, набитый разломанными зубами, и вычищенные
сапоги, сложенные в пятках, как на ученье.
— Бойцы! — сказал тогда, глядя на покойника, Пугачев, командир полка, и стал у края
ямы. — Бойцы! — сказал он, дрожа и вытягиваясь по швам. — Хороним Пашу Трунова,
всемирного героя, отдаем Паше последнюю честь…
И, подняв к небу глаза, раскаленные бессонницей, Пугачев прокричал речь о мертвых
бойцах из Первой Конной, о гордой этой фаланге, бьющей молотом истории по наковальне
будущих веков. Пугачев громко прокричал свою речь, он сжимал рукоять кривой чеченской
шашки и рыл землю ободранными сапогами в серебряных шпорах. Оркестр после его речи
сыграл «Интернационал», и казаки простились с Пашкой. Труновым. Весь эскадрон вскочил
на коней и дал залп в воздух, трехдюймовка наша прошамкала во второй раз, и мы послали
трех казаков за венком. Они помчались, стреляя на карьере, выпадая из седел и джигитуя, и
привезли краевых цветов целые пригоршни. Пугачев рассыпал эти цветы у могилы, и мы
стали подходить к Трунову с последним целованием. Я тронул губами прояснившийся лоб,
обложенный седлом, и ушел в город, в готический Сокаль, лежавший в синей пыли и
галицийском унынии.
Большая площадь простиралась налево от сада, площадь, застроенная древними
синагогами. Евреи в рваных лапсердаках бранились на этой площади и таскали друг друга.
Одни из них — ортодоксы — превозносили учение Адасии, раввина из Белза; за это на
ортодоксов наступали хасиды умеренного толка, ученики гуссятинского раввина Иуды.
Евреи спорили о Каббале и поминали в своих спорах имя Ильи, виленского гаона, гонителя
хасидов…
Забыв войну и залпы, хасиды поносили самое имя Ильи, виленского первосвященника,
и я, томясь печалью по Трунову, я тоже толкался среди них и для облегчения моего горланил
вместе с ними, пока не увидел перед собой галичанина, мертвенного и длинного, как
Дон-Кихот.
Галичанин этот был одет в белую холщовую рубаху до пят. Он был одет как бы для
погребений или для причастия и вел на веревке взлохмаченную коровенку. На гигантское его
туловище была посажена подвижная, крохотная, пробитая головка змеи; она была прикрыта
широкополой шляпой из деревенской соломы и пошатывалась. Жалкая коровенка шла за
галичанином на поводу; он вел ее с важностью и виселицей длинных своих костей пересекал
горячий блеск небес.
Торжественным шагом миновал он площадь и вошел в кривой переулок, обкуренный
тошнотворными густыми дымами. В обугленных домишках, в нищих кухнях возились
еврейки, похожие на старых негритянок, еврейки с непомерными грудями. Галичанин
прошел мимо них и остановился в конце переулка у фронтона разбитого здания.
Там, у фронтона, у белой покоробленной колонны сидел цыган-кузнец и ковал
лошадей. Цыган бил молотом по копытам, потряхивая жирными волосами, свистел и
улыбался. Несколько казаков с лошадьми стояли вокруг него. Мой галичанин подошел к
кузнецу, безмолвно отдал ему с дюжину печеных картофелин и, ни на кого не глядя,
повернул назад. Я зашагал было за ним, но тут меня остановил казак, державший наготове
некованую лошадь. Фамилия этому казаку была Селиверстов. Он ушел от Махно когда-то и
служил в 33-м кавполку.
— Лютов, — сказал он, поздоровавшись со мной за руку, — ты всех людей задираешь,
в тебе черт сидит, Лютов, — зачем ты Трунова покалечил сегодняшнее утро?
И с глупых чужих слов Селиверстов закричал мне сущую нелепицу о том, будто я в
нынешнее утро побил Трунова, моего эскадронного. Селиверстов укорял меня всячески за