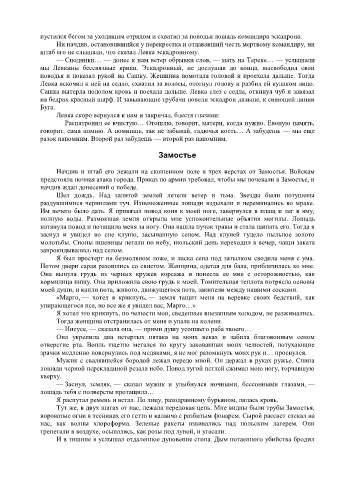Page 48 - Конармия
P. 48
пустился бегом за уходящим отрядом и схватил за поводья лошадь командира эскадрона.
Ни начдив, остановившийся у перекрестка и отдававший честь мертвому командиру, ни
штаб его не слышали, что сказал Левка эскадронному.
— Сподники… — донес к нам ветер обрывки слов, — мать на Тереке… — услышали
мы Левкины бессвязные крики. Эскадронный, не дослушав до конца, высвободил свои
поводья и показал рукой на Сашку. Женщина помотала головой и проехала дальше. Тогда
Левка вскочил к ней на седло, схватил за волосы, отогнул голову и разбил ей кулаком лицо.
Сашка вытерла подолом кровь и поехала дальше. Левка слез с седла, откинул чуб и завязал
на бедрах красный шарф. И завывающие трубачи повели эскадрон дальше, к сияющей линии
Буга.
Левка скоро вернулся к нам и закричал, блестя глазами:
— Распатронил ее вчистую… Отошлю, говорит, матери, когда нужно. Евоную память,
говорит, сама помню. А помнишь, так не забывай, гадючья кость… А забудешь — мы еще
разок напомним. Второй раз забудешь — второй раз напомним.
Замостье
Начдив и штаб его лежали на скошенном поле в трех верстах от Замостья. Войскам
предстояла ночная атака города. Приказ по армии требовал, чтобы мы ночевали в Замостье, и
начдив ждал донесений о победе.
Шел дождь. Над залитой землей летели ветер и тьма. Звезды были потушены
раздувшимися чернилами туч. Изнеможенные лошади вздыхали и переминались во мраке.
Им нечего было дать. Я привязал повод коня к моей ноге, завернулся в плащ и лег в яму,
полную воды. Размокшая земля открыла мне успокоительные объятия могилы. Лошадь
натянула повод и потащила меня за ногу. Она нашла пучок травы и стала щипать его. Тогда я
заснул и увидел во сне клуню, засыпанную сеном. Над клуней гудело пыльное золото
молотьбы. Снопы пшеницы летали по небу, июльский день переходил в вечер, чащи заката
запрокидывались над селом.
Я был простерт на безмолвном ложе, и ласка сена под затылком сводила меня с ума.
Потом двери сарая разошлись со свистом. Женщина, одетая для бала, приблизилась ко мне.
Она вынула грудь из черных кружев корсажа и понесла ее мне с осторожностью, как
кормилица пищу. Она приложила свою грудь к моей. Томительная теплота потрясла основы
моей души, и капли пота, живого, движущегося пота, закипели между нашими сосками.
«Марго, — хотел я крикнуть, — земля тащит меня на веревке своих бедствий, как
упирающегося пса, но все же я увидел вас, Марго…»
Я хотел это крикнуть, но челюсти мои, сведенные внезапным холодом, не разжимались.
Тогда женщина отстранилась от меня и упала на колени.
— Иисусе, — сказала она, — прими душу усопшего раба твоего…
Она укрепила два истертых пятака на моих веках и забила благовонным сеном
отверстие рта. Вопль тщетно метался по кругу закованных моих челюстей, потухающие
зрачки медленно повернулись под медяками, я не мог разомкнуть моих рук и… проснулся.
Мужик с свалявшейся бородой лежал передо мной. Он держал в руках ружье. Спина
лошади черной перекладиной резала небо. Повод тугой петлей сжимал мою ногу, торчавшую
кверху.
— Заснул, земляк, — сказал мужик и улыбнулся ночными, бессонными глазами, —
лошадь тебя с полверсты протащила…
Я распутал ремень и встал. По лицу, разодранному бурьяном, лилась кровь.
Тут же, в двух шагах от нас, лежала передовая цепь. Мне видны были трубы Замостья,
вороватые огни в теснинах его гетто и каланча с разбитым фонарем. Сырой рассвет стекал на
нас, как волны хлороформа. Зеленые ракеты взвивались над польским лагерем. Они
трепетали в воздухе, осыпались, как розы под луной, и угасали.
И в тишине я услышал отдаленное дуновение стона. Дым потаенного убийства бродил