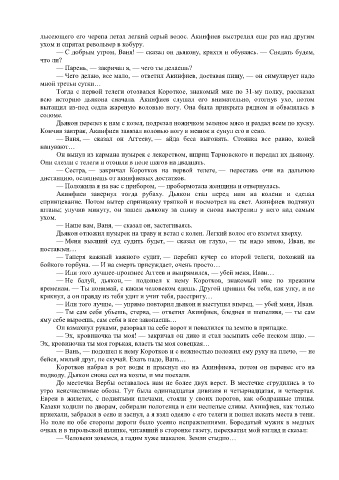Page 44 - Конармия
P. 44
лысеющего его черепа летал легкий серый волос. Акинфиев выстрелил еще раз над другим
ухом и спрятал револьвер в кобуру.
— С добрым утром, Ваня! — сказал он дьякону, кряхтя и обуваясь. — Снедать будем,
что ли?
— Парень, — закричал я, — чего ты делаешь?
— Чего делаю, все мало, — ответил Акинфиев, доставая пищу, — он симулирует надо
мной третьи сутки…
Тогда с первой телеги отозвался Короткое, знакомый мне по 31-му полку, рассказал
всю историю дьякона сначала. Акинфиев слушал его внимательно, отогнув ухо, потом
вытащил из-под седла жареную воловью ногу. Она была прикрыта рядном и обвалялась в
соломе.
Дьякон перелез к нам с козел, подрезал ножичком зеленое мясо и раздал всем по куску.
Кончив завтрак, Акинфиев завязал воловью ногу в мешок и сунул его в сено.
— Ваня, — сказал он Аггееву, — айда беса выгонять. Стоянка все равно, коней
напувают…
Он вынул из кармана пузырек с лекарством, шприц Тарновского и передал их дьякону.
Они слезли с телеги и отошли в поле шагов на двадцать.
— Сестра, — закричал Коротков на первой телеге, — переставь очи на дальнюю
дистанцию, ослепнешь от акинфиевых достатков.
— Положила я на вас с прибором, — пробормотала женщина и отвернулась.
Акинфиев завернул тогда рубаху. Дьякон стал перед ним на колени и сделал
спринцевание. Потом вытер спринцовку тряпкой и посмотрел на свет. Акинфиев подтянул
штаны; улучив минуту, он зашел дьякону за спину и снова выстрелил у него над самым
ухом.
— Наше вам, Ваня, — сказал он, застегиваясь.
Дьякон отложил пузырек на траву и встал с колен. Легкий волос его взлетел кверху.
— Меня высший суд судить будет, — сказал он глухо, — ты надо мною, Иван, не
поставлен…
— Таперя кажный кажного судит, — перебил кучер со второй телеги, похожий на
бойкого горбуна. — И на смерть присуждает, очень просто…
— Или того лучшее-произнес Аггеев и выпрямился, — убей меня, Иван…
— Не балуй, дьякон, — подошел к нему Коротков, знакомый мне по прежним
временам. — Ты понимай, с каким человеком едешь. Другой пришил бы тебя, как утку, и не
крякнул, а он правду из тебя удит и учит тебя, расстригу…
— Или того лучше, — упрямо повторил дьякон и выступил вперед, — убей меня, Иван.
— Ты сам себя убьешь, стерва, — ответил Акинфиев, бледнея и шепелявя, — ты сам
яму себе выроешь, сам себя в нее закопаешь…
Он взмахнул руками, разорвал на себе ворот и повалился на землю в припадке.
— Эх, кровиночка ты моя! — закричал он дико и стал засыпать себе песком лицо. —
Эх, кровиночка ты моя горькая, власть ты моя совецкая…
— Вань, — подошел к нему Коротков и с нежностью положил ему руку на плечо, — не
бейся, милый друг, не скучай. Ехать надо, Вань…
Коротков набрал в рот воды и прыснул ею на Акинфиева, потом он перенес его на
подводу. Дьякон снова сел на козлы, и мы поехали.
До местечка Вербы оставалось нам не более двух верст. В местечке сгрудились в то
утро неисчислимые обозы. Тут была одиннадцатая дивизия и четырнадцатая, и четвертая.
Евреи в жилетах, с поднятыми плечами, стояли у своих порогов, как ободранные птицы.
Казаки ходили по дворам, собирали полотенца и ели неспелые сливы. Акинфиев, как только
приехали, забрался в сено и заснул, а я взял одеяло с его телеги и пошел искать места в тени.
Но поле по обе стороны дороги было усеяно испражнениями. Бородатый мужик в медных
очках и в тирольской шляпке, читавший в сторонке газету, перехватил мой взгляд и сказал:
— Человеки зовемся, а гадим хуже шакалов. Земли стыдно…