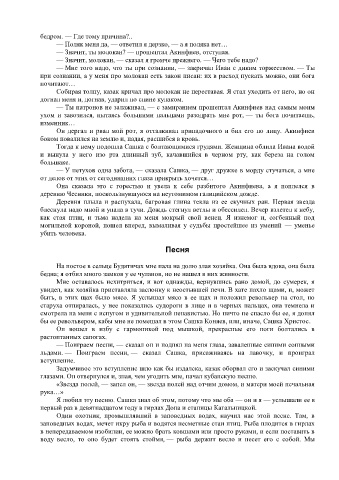Page 55 - Конармия
P. 55
бедром. — Где тому причина?..
— Поляк меня да, — ответил я дерзко, — а я поляка нет…
— Значит, ты молокан? — прошептал Акинфиев, отступая.
— Значит, молокан, — сказал я громче прежнего. — Чего тебе надо?
— Мне того надо, что ты при сознании, — закричал Иван с диким торжеством. — Ты
при сознании, а у меня про молокан есть закон писан: их в расход пускать можно, они бога
почитают…
Собирая толпу, казак кричал про молокан не переставая. Я стал уходить от него, но он
догнал меня и, догнав, ударил по спине кулаком.
— Ты патронов не залаживал, — с замиранием прошептал Акинфиев над самым моим
ухом и завозился, пытаясь большими пальцами разодрать мне рот, — ты бога почитаешь,
изменник…
Он дергал и рвал мой рот, я отталкивал припадочного и бил его по лицу. Акинфиев
боком повалился на землю и, падая, расшибся в кровь.
Тогда к нему подошла Сашка с болтающимися грудями. Женщина облила Ивана водой
и вынула у него изо рта длинный зуб, качавшийся в черном рту, как береза на голом
большаке.
— У петухов одна забота, — сказала Сашка, — друг дружке в морду стучаться, а мне
от делов от этих от сегодняшних глаза прикрыть хочется…
Она сказала это с горестью и увела к себе разбитого Акинфиева, а я поплелся в
деревню Чесники, поскользнувшуюся на неутомимом галицийском дожде.
Деревня плыла и распухала, багровая глина текла из ее скучных ран. Первая звезда
блеснула надо мной и упала в тучи. Дождь стегнул ветлы и обессилел. Вечер взлетел к небу,
как стая птиц, и тьма надела на меня мокрый свой венец. Я изнемог и, согбенный под
могильной короной, пошел вперед, вымаливая у судьбы простейшее из умений — уменье
убить человека.
Песня
На постое в сельце Будятичах мне пала на долю злая хозяйка. Она была вдова, она была
бедна; я отбил много замков у ее чуланов, но не нашел в них живности.
Мне оставалось исхитриться, и вот однажды, вернувшись рано домой, до сумерек, я
увидел, как хозяйка приставляла заслонку к неостывшей печи. В хате пахло щами, и, может
быть, в этих щах было мясо. Я услышал мясо в ее щах и положил револьвер на стол, но
старуха отпиралась, у нее показались судороги в лице и в черных пальцах, она темнела и
смотрела на меня с испугом и удивительной ненавистью. Но ничто не спасло бы ее, я донял
бы ее револьвером, кабы мне не помешал в этом Сашка Коняев, или, иначе, Сашка Христос.
Он вошел в избу с гармоникой под мышкой, прекрасные его ноги болтались в
растоптанных сапогах.
— Поиграем песни, — сказал он и поднял на меня глаза, заваленные синими сонными
льдами. — Поиграем песни, — сказал Сашка, присаживаясь на лавочку, и проиграл
вступление.
Задумчивое это вступление шло как бы издалека, казак оборвал его и заскучал синими
глазами. Он отвернулся и, зная, чем угодить мне, начал кубанскую песню.
«Звезда полей, — запел он, — звезда полей над отчим домом, и матери моей печальная
рука…»
Я любил эту песню. Сашка знал об этом, потому что мы оба — он и я — услышали ее в
первый раз в девятнадцатом году в гирлах Дона и станицы Кагальницкой.
Один охотник, промышлявший в заповедных водах, научил нас этой песне. Там, в
заповедных водах, мечет икру рыба и водятся несметные стаи птиц. Рыба плодится в гирлах
в непередаваемом изобилии, ее можно брать ковшами или просто руками, и если поставить в
воду весло, то оно будет стоять стоймя, — рыба держит весло и несет его с собой. Мы