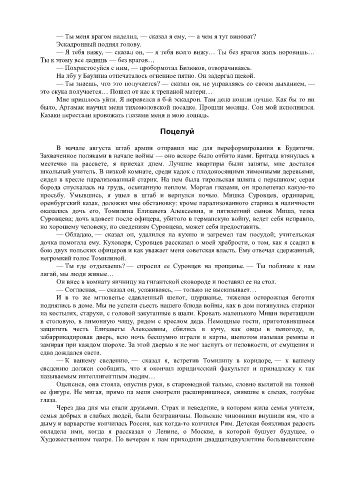Page 60 - Конармия
P. 60
— Ты меня врагом наделил, — сказал я ему, — а чем я тут виноват?
Эскадронный поднял голову.
— Я тебя вижу, — сказал он, — я тебя всего вижу… Ты без врагов жить норовишь…
Ты к этому все ладишь — без врагов…
— Похристосуйся с ним, — пробормотал Бизюков, отворачиваясь.
На лбу у Баулина отпечаталось огненное пятно. Он задергал щекой.
— Ты знаешь, что это получается? — сказал он, не управляясь со своим дыханием, —
это скука получается… Пошел от нас к трепаной матери…
Мне пришлось уйти. Я перевелся в б-й эскадрон. Там дела пошли лучше. Как бы то ни
было, Аргамак научил меня тихомоловской посадке. Прошли месяцы. Сон мой исполнился.
Казаки перестали провожать глазами меня и мою лошадь.
Поцелуй
В начале августа штаб армии отправил нас для переформирования в Будятичи.
Захваченное поляками в начале войны — оно вскоре было отбито нами. Бригада втянулась в
местечко на рассвете, я приехал днем. Лучшие квартиры были заняты, мне достался
школьный учитель. В низкой комнате, среди кадок с плодоносящими лимонными деревьями,
сидел в кресле парализованный старик. На нем была тирольская шляпа с перышком; серая
борода спускалась на грудь, осыпанную пеплом. Моргая глазами, он пролепетал какую-то
просьбу. Умывшись, я ушел в штаб и вернулся ночью. Мишка Суровцев, ординарец,
оренбургский казак, доложил мне обстановку: кроме парализованного старика в наличности
оказалась дочь его, Томилина Елизавета Алексеевна, и пятилетний сынок Миша, тезка
Суровцева; дочь вдовеет после офицера, убитого в германскую войну, ведет себя исправно,
но хорошему человеку, по сведениям Суровцева, может себя предоставить.
— Обладаю, — сказал он, удалился на кухню и загремел там посудой; учительская
дочка помогала ему. Куховаря, Суровцев рассказал о моей храбрости, о том, как я ссадил в
бою двух польских офицеров и как уважает меня советская власть. Ему отвечал сдержанный,
негромкий голос Томилиной.
— Ты где отдыхаешь? — спросил ее Суровцев на прощанье. — Ты поближе к нам
лягай, мы люди живые…
Он внес в комнату яичницу на гигантской сковороде и поставил ее на стол.
— Согласная, — сказал он, усаживаясь, — только не высказывает…
И в то же мгновенье сдавленный шепот, шуршанье, тяжелая осторожная беготня
поднялись в доме. Мы не успели съесть нашего блюда войны, как в дом потянулись старики
на костылях, старухи, с головой закутанные в шали. Кровать маленького Миши перетащили
в столовую, в лимонную чащу, рядом с креслом деда. Немощные гости, приготовившиеся
защитить честь Елизаветы Алексеевны, сбились в кучу, как овцы в непогоду, и,
забаррикадировав дверь, всю ночь бесшумно играли в карты, шепотом называя ремизы и
замирая при каждом шорохе. За этой дверью я не мог заснуть от неловкости, от смущения и
едва дождался света.
— К вашему сведению, — сказал я, встретив Томилину в коридоре, — к вашему
сведению должен сообщить, что я окончил юридический факультет и принадлежу к так
называемым интеллигентным людям…
Оцепенев, она стояла, опустив руки, в старомодной тальме, словно вылитой на тонкой
ее фигуре. Не мигая, прямо на меня смотрели расширившиеся, сиявшие в слезах, голубые
глаза.
Через два дня мы стали друзьями. Страх и неведение, в котором жила семья учителя,
семья добрых и слабых людей, были безграничны. Польские чиновники внушили им, что в
дыму и варварстве кончилась Россия, как когда-то кончился Рим. Детская боязливая радость
овладела ими, когда я рассказал о Ленине, о Москве, в которой бушует будущее, о
Художественном театре. По вечерам к нам приходили двадцатидвухлетние большевистские