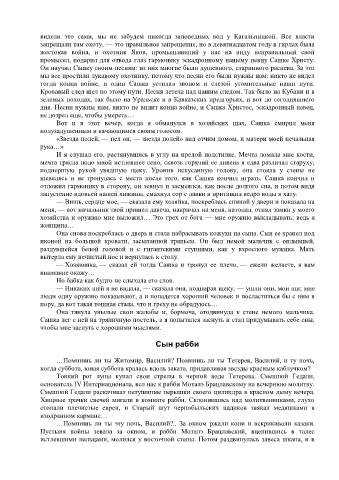Page 56 - Конармия
P. 56
видели это сами, мы не забудем никогда заповедных вод у Кагальницкой. Все власти
запрещали там охоту, — это правильное запрещение, но в девятнадцатом году в гирлах была
жестокая война, и охотник Яков, промышлявший у нас на виду неправильный свой
промысел, подарил для отвода глаз гармонику эскадронному нашему певцу Сашке Христу.
Он научил Сашку своим песням: из них многие были душевного, старинного распева. За это
мы все простили лукавому охотнику, потому что песни его были нужны нам: никто не видел
тогда конца войне, и один Сашка устилал звоном и слезой утомительные наши пути.
Кровавый след шел по этому пути. Песня летела над нашим следом. Так было на Кубани и в
зеленых походах, так было на Уральске и в Кавказских предгорьях, и вот до сегодняшнего
дня. Песни нужны нам, никто не видит конца войне, и Сашка Христос, эскадронный певец,
не дозрел еще, чтобы умереть…
Вот и в этот вечер, когда я обманулся в хозяйских щах, Сашка смирил меня
полузадушенным и качающимся своим голосом.
«Звезда полей, — пел он, — звезда полей» над отчим домом, и матери моей печальная
рука…»
И я слушал его, растянувшись в углу на прелой подстилке. Мечта ломала мне кости,
мечта трясла подо мной истлевшее сено, сквозь горячий ее ливень я едва различал старуху,
подпершую рукой увядшую щеку. Уронив искусанную голову, она стояла у стены не
шевелясь и не тронулась с места после того, как Сашка кончил играть. Сашка кончил и
отложил гармонику в сторону, он зевнул и засмеялся, как после долгого сна, и потом видя
запустение вдовьей нашей хижины, смахнул сор с лавки и притащил ведро воды в хату.
— Вишь, сердце мое, — сказала ему хозяйка, поскреблась спиной у двери и показала на
меня, — вот начальник твой пришел давеча, накричал на меня, натопал, отнял замки у моего
хозяйства и оружию мне выложил… Это грех от бога — мне оружию выкладывать: ведь я
женщина…
Она снова поскреблась о дверь и стала набрасывать кожухи на сына. Сын ее храпел под
иконой на большой кровати, засыпанной тряпьем. Он был немой мальчик с оплывшей,
раздувшейся белой головой и с гигантскими ступнями, как у взрослого мужика. Мать
вытерла ему нечистый нос и вернулась к столу.
— Хозяюшка, — сказал ей тогда Сашка и тронул ее плечо, — ежели желаете, я вам
внимание окажу…
Но бабка как будто не слыхала его слов.
— Никаких щей я не видала, — сказала она, подпирая щеку, — ушли они, мои щи; мне
люди одну оружию показывают, а и попадется хороший человек и посластиться бы с ним в
пору, да вот такая тошная стала, что и греху не обрадуюсь…
Она тянула унылые свои жалобы и, бормоча, отодвинула к стене немого мальчика.
Сашка лег с ней на тряпичную постель, а я попытался заснуть и стал придумывать себе сны,
чтобы мне заснуть с хорошими мыслями.
Сын рабби
…Помнишь ли ты Житомир, Василий? Помнишь ли ты Тетерев, Василий, и ту ночь,
когда суббота, юная суббота кралась вдоль заката, придавливая звезды красным каблучком?
Тонкий рог луны купал свои стрелы в черной воде Тетерева. Смешной Гедали,
основатель IV Интернационала, вел нас к рабби Моталэ Брацлавскому на вечернюю молитву.
Смешной Гедали раскачивал петушиные перышки своего цилиндра в красном дыму вечера.
Хищные зрачки свечей мигали в комнате рабби. Склонившись над молитвенниками, глухо
стонали плечистые евреи, и Старый шут чернобыльских цадиков звякал медяшками в
изодранном кармане…
…Помнишь ли ты эту ночь, Василий?.. За окном ржали кони и вскрикивали казаки.
Пустыня войны зевала за окном, и рабби Моталэ Брацлавский, вцепившись в талес
истлевшими пальцами, молился у восточной стены. Потом раздвинулась завеса шкапа, и в