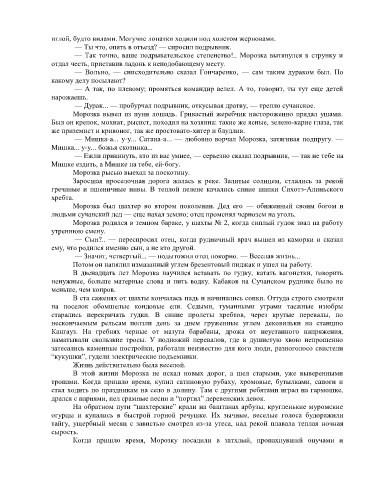Page 2 - Разгром
P. 2
иглой, будто вилами. Могучие лопатки ходили под холстом жерновами.
— Ты что, опять в отъезд? — спросил подрывник.
— Так точно, ваше подрывательское степенство!.. Морозка вытянулся в струнку и
отдал честь, приставив ладонь к неподобающему месту.
— Вольно, — снисходительно сказал Гончаренко, — сам таким дураком был. По
какому делу посылают?
— А так, по плевому; промяться командир велел. А то, говорит, ты тут еще детей
нарожаешь.
— Дурак... — пробурчал подрывник, откусывая дратву, — трепло сучанское.
Морозка вывел из пуни лошадь. Гривастый жеребчик настороженно прядал ушами.
Был он крепок, мохнат, рысист, походил на хозяина: такие же ясные, зелено-карие глаза, так
же приземист и кривоног, так же простовато-хитер и блудлив.
— Мишка-а... у-у... Сатана-а... — любовно ворчал Морозка, затягивая подпругу. —
Мишка... у-у... божья скотинка...
— Ежли прикинуть, кто из вас умнее, — серьезно сказал подрывник, — так не тебе на
Мишке ездить, а Мишке на тебе, ей-богу.
Морозка рысью выехал за поскотину.
Заросшая проселочная дорога жалась к реке. Залитые солнцем, стлались за рекой
гречаные и пшеничные нивы. В теплой пелене качались синие шапки Сихотэ-Алиньского
хребта.
Морозка был шахтер во втором поколении. Дед его — обиженный своим богом и
людьми сучанский дед — еще пахал землю; отец променял чернозем на уголь.
Морозка родился в темном бараке, у шахты № 2, когда сиплый гудок звал на работу
утреннюю смену.
— Сын?.. — переспросил отец, когда рудничный врач вышел из каморки и сказал
ему, что родился именно сын, а не кто другой.
— Значит, четвертый... — подытожил отец покорно. — Веселая жизнь...
Потом он напялил измазанный углем брезентовый пиджак и ушел на работу.
В двенадцать лет Морозка научился вставать по гудку, катать вагонетки, говорить
ненужные, больше матерные слова и пить водку. Кабаков на Сучанском руднике было не
меньше, чем копров.
В ста саженях от шахты кончалась падь и начинались сопки. Оттуда строго смотрели
на поселок обомшелые кондовые ели. Седыми, туманными утрами таежные изюбры
старались перекричать гудки. В синие пролеты хребтов, через крутые перевалы, по
нескончаемым рельсам ползли день за днем груженные углем дековильки на станцию
Кангауз. На гребнях черные от мазута барабаны, дрожа от неустанного напряжения,
наматывали скользкие тросы. У подножий перевалов, где в душистую хвою непрошенно
затесались каменные постройки, работали неизвестно для кого люди, разноголосо свистели
“кукушки”, гудели электрические подъемники.
Жизнь действительно была веселой.
В этой жизни Морозка не искал новых дорог, а шел старыми, уже выверенными
тропами. Когда пришло время, купил сатиновую рубаху, хромовые, бутылками, сапоги и
стал ходить по праздникам на село в долину. Там с другими ребятами играл на гармошке,
дрался с парнями, пел срамные песни и “портил” деревенских девок.
На обратном пути “шахтерские” крали на баштанах арбузы, кругленькие муромские
огурцы и купались в быстрой горной речушке. Их зычные, веселые голоса будоражили
тайгу, ущербный месяц с завистью смотрел из-за утеса, над рекой плавала теплая ночная
сырость.
Когда пришло время, Морозку посадили в затхлый, пропахнувший онучами и