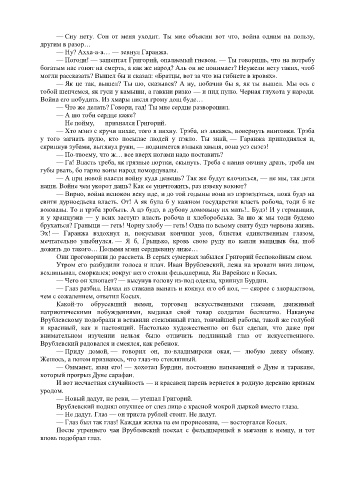Page 205 - Тихий Дон
P. 205
— Сну нету. Сон от меня уходит. Ты мне объясни вот что, война одним на пользу,
другим в разор…
— Ну? Ахха-а-а… — зевнул Гаранжа.
— Погоди! — зашептал Григорий, опаляемый гневом. — Ты говоришь, что на потребу
богатым нас гонят на смерть, а как же народ? Аль он не понимает? Неужели нету таких, чтоб
могли рассказать? Вышел бы и сказал: «Братцы, вот за что вы гибнете в кровях».
— Як це так, вышел? Ты шо, сказывся? А ну, побачив бы я, як ты вышел. Мы ось с
тобой шепчемся, як гуси у камыши, а гавкни ризко — и пид пулю. Черная глухота у народи.
Война его побудить. Из хмары писля грому дощ буде…
— Что же делать? Говори, гад! Ты мне сердце разворошил.
— А шо тоби сердце каже?
— Не пойму, — признался Григорий.
— Хто мэнэ с кручи пихае, того я пихну. Трэба, нэ лякаясь, повернуть винтовки. Трэба
у того загнать пулю, кто посылае людей у пэкло. Ты знай, — Гаранжа приподнялся и,
скрипнув зубами, вытянул руки, — поднимется вэлыка хвыля, вона усэ снэсэ!
— По-твоему, что ж… все вверх ногами надо поставить?
— Га! Власть треба, як грязные портки, скынуть. Треба с панив овчину драть, треба им
губы рвать, бо гарно воны народ помордувалы.
— А при новой власти войну куда денешь? Так же будут клочиться, — не мы, так дети
наши. Войне чем укорот дашь? Как ее уничтожить, раз извеку воюют?
— Вирно, война испокон веку иде, и до той годыны вона нэ пэрэвэдэться, пока будэ на
свити дурноедьска власть. От! А як була б у кажном государстви власть робоча, тоди б не
воювалы. То и трэба зробыть. А цэ будэ, в дубову домовыну их мать!.. Будэ! И у германцив,
и у хранцузив — у всих заступэ власть робоча и хлеборобська. За шо ж мы тоди будемо
брухаться? Граныци — геть! Чорну злобу — геть! Одна по всьому свиту будэ червона жизнь.
Эх! — Гаранжа вздохнул и, покусывая кончики усов, блистая единственным глазом,
мечтательно улыбнулся. — Я б, Грыцько, кровь свою руду по капли выцидыв бы, шоб
дожить до такого… Полымя мэни сердцевину лиже…
Они проговорили до рассвета. В серых сумерках забылся Григорий беспокойным сном.
Утром его разбудили голоса и плач. Иван Врублевский, лежа на кровати вниз лицом,
всхлипывал, сморкался; вокруг него стояли фельдшерица, Ян Варейкис и Косых.
— Чего он хлюпает? — высунув голову из-под одеяла, хрипнул Бурдин.
— Глаз разбил. Начал из стакана вынать и кокнул его об пол, — скорее с злорадством,
чем с сожалением, ответил Косых.
Какой-то обрусевший немец, торговец искусственными глазами, движимый
патриотическими побуждениями, выдавал свой товар солдатам бесплатно. Накануне
Врублевскому подобрали и вставили стеклянный глаз, тончайшей работы, такой же голубой
и красивый, как и настоящий. Настолько художественно он был сделан, что даже при
внимательном изучении нельзя было отличить подлинный глаз от искусственного.
Врублевский радовался и смеялся, как ребенок.
— Приду домой, — говорил он, по-владимирски окая, — любую девку обману.
Женюсь, а потом признаюсь, что глаз-то стеклянный.
— Омманет, язви его! — хохотал Бурдин, постоянно напевавший о Дуне и таракане,
который прогрыз Дуне сарафан.
И вот несчастная случайность — и красавец парень вернется в родную деревню кривым
уродом.
— Новый дадут, не реви, — утешал Григорий.
Врублевский поднял опухшее от слез лицо с красной мокрой дыркой вместо глаза.
— Не дадут. Глаз — он триста рублей стоит. Не дадут.
— Глаз был так глаз! Каждая жилка на ем прорисована, — восторгался Косых.
После утреннего чая Врублевский поехал с фельдшерицей в магазин к немцу, и тот
вновь подобрал глаз.