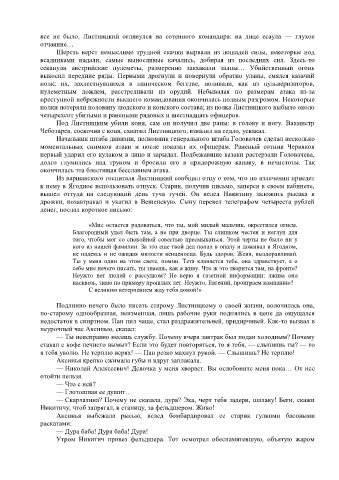Page 200 - Тихий Дон
P. 200
все не было, Листницкий оглянулся на сотенного командира: на лице есаула — глухое
отчаяние…
Шерсть верст немыслимо трудной скачки вырвали из лошадей силы, некоторые под
всадниками падали, самые выносливые качались, добирая из последних сил. Здесь-то
секанули австрийские пулеметы, размеренно закхакали залпы… Убийственный огонь
выкосил передние ряды. Первыми дрогнули и повернули обратно уланы, смялся казачий
полк; их, захлестнувшихся в паническом бегстве, поливали, как из пульверизаторов,
пулеметным дождем, расстреливали из орудий. Небывалая по размерам атака из-за
преступной небрежности высшего командования окончилась полным разгромом. Некоторые
полки потеряли половину людского и конского состава; из полка Листницкого выбыло около
четырехсот убитыми и ранеными рядовых и шестнадцать офицеров.
Под Листницким убили коня, сам он получил две раны: в голову и ногу. Вахмистр
Чеботарев, соскочив с коня, схватил Листницкого, взвалил на седло, ускакал.
Начальник штаба дивизии, полковник генерального штаба Головачев сделал несколько
моментальных снимков атаки и после показал их офицерам. Раненый сотник Червяков
первый ударил его кулаком в лицо и зарыдал. Подбежавшие казаки растерзали Головачева,
долго глумились над трупом и бросили его в придорожную канаву, в нечистоты. Так
окончилась эта блестящая бесславием атака.
Из варшавского госпиталя Листницкий сообщил отцу о том, что по излечении приедет
к нему в Ягодное использовать отпуск. Старик, получив письмо, заперся в своем кабинете,
вышел оттуда на следующий день туча тучей. Он велел Никитину заложить рысака в
дрожки, позавтракал и укатил в Вешенскую. Сыну перевел телеграфом четыреста рублей
денег, послал короткое письмо:
«Мне остается радоваться, что ты, мой милый мальчик, окрестился огнем.
Благородный удел быть там, а не при дворце. Ты слишком честен и неглуп для
того, чтобы мог со спокойной совестью пресмыкаться. Этой черты не было ни у
кого из нашей фамилии. За это еще твой дед попал в опалу и доживал в Ягодном,
не надеясь и не ожидая милости венценосца. Будь здоров, Женя, выздоравливай.
Ты у меня один на этом свете, помни. Тетя кланяется тебе, она здравствует, а о
себе мне нечего писать, ты знаешь, как я живу. Что ж это творится там, на фронте?
Неужто нет людей с рассудком? Не верю я газетной информации: лжива она
насквозь, знаю по примеру прошлых лет. Неужто, Евгений, проиграем кампанию?
С великим нетерпением жду тебя домой!»
Подлинно нечего было писать старому Листницкому о своей жизни, волочилась она,
по-старому однообразная, неизменная, лишь рабочие руки поднялись в цене да ощущался
недостаток в спиртном. Пан пил чаще, стал раздражительней, придирчивей. Как-то вызвал в
неурочный час Аксинью, сказал:
— Ты неисправно несешь службу. Почему вчера завтрак был подан холодным? Почему
стакан с кофе нечисто вымыт? Если это будет повторяться, то я тебя, — слышишь ты? — то
я тебя уволю. Не терплю нерях! — Пан резко махнул рукой. — Слышишь? Не терплю!
Аксинья крепко сжимала губы и вдруг заплакала.
— Николай Алексеевич! Девочка у меня хворает. Вы ослобоните меня пока… От нее
отойти нельзя.
— Что с ней?
— Глотошная ее душит…
— Скарлатина? Почему не сказала, дура? Эка, черт тебя задери, шалаву! Беги, скажи
Никитичу, чтоб запрягал, в станицу, за фельдшером. Живо!
Аксинья выбежала рысью, вслед бомбардировал ее старик гулкими басовыми
раскатами:
— Дура баба! Дура баба! Дура!
Утром Никитич привез фельдшера. Тот осмотрел обеспамятевшую, объятую жаром