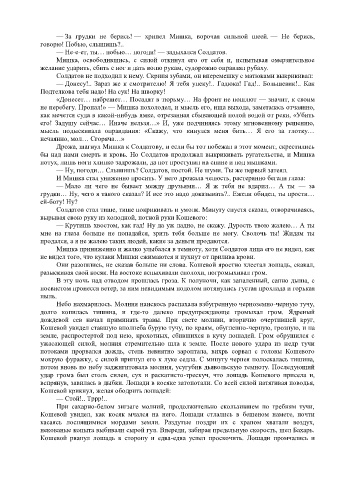Page 432 - Тихий Дон
P. 432
— За грудки не берись! — хрипел Мишка, ворочая сильной шеей. — Не берись,
говорю! Побью, слышишь?..
— Не-е-ет, ты… побью… погоди! — задыхался Солдатов.
Мишка, освободившись, с силой откинул его от себя и, испытывая омерзительное
желание ударить, сбить с ног и дать волю рукам, судорожно оправлял рубаху.
Солдатов не подходил к нему. Скрипя зубами, он вперемешку с матюками выкрикивал:
— Донесу!.. Зараз же к смотрителю! Я тебя упеку!.. Гадюка! Гад!.. Большевик!.. Как
Подтелкова тебя надо! На сук! На шворку!
«Донесет… набрешет… Посадят в тюрьму… На фронт не пошлют — значит, к своим
не перебегу. Пропал!» — Мишка похолодел, и мысль его, ища выхода, заметалась отчаянно,
как мечется суда в какой-нибудь ямке, отрезанная сбывающей полой водой от реки, «Убить
его! Задушу сейчас… Иначе нельзя…» И, уже подчиняясь этому мгновенному решению,
мысль подыскивала оправдания: «Скажу, что кинулся меня бить… Я его за глотку…
нечаянно, мол… Сгоряча…»
Дрожа, шагнул Мишка к Солдатову, и если бы тот побежал в этот момент, скрестились
бы над нами смерть и кровь. Но Солдатов продолжал выкрикивать ругательства, и Мишка
потух, лишь ноги хлипко задрожали, да пот проступил на спине и под мышками.
— Ну, погоди… Слышишь? Солдатов, постой. Не шуми. Ты же первый затеял.
И Мишка стал униженно просить. У него дрожала челюсть, растерянно бегали глаза:
— Мало ли чего не бывает между друзьями… Я ж тебя не вдарил… А ты — за
грудки… Ну, чего я такого сказал? И все это надо доказывать?.. Ежели обидел, ты прости…
ей-богу! Ну?
Солдатов стал тише, тише покрикивать и умолк. Минуту спустя сказал, отворачиваясь,
вырывая свою руку из холодной, потной руки Кошевого:
— Крутишь хвостом, как гад! Ну да уж ладно, не скажу. Дурость твою жалею… А ты
мне на глаза больше не попадайся, зрить тебя больше не могу. Сволочь ты! Жидам ты
продался, а я не жалею таких людей, какие за деньги продаются.
Мишка приниженно и жалко улыбался в темноту, хотя Солдатов лица его не видел, как
не видел того, что кулаки Мишки сжимаются и пухнут от прилива крови.
Они разошлись, не сказав больше ни слова. Кошевой яростно хлестал лошадь, скакал,
разыскивая свой косяк. На востоке вспыхивали сполохи, погромыхивал гром.
В эту ночь над отводом прошлась гроза. К полуночи, как запаленный, сапно дыша, с
посвистом пронесся ветер, за ним невидимым подолом потянулись густая прохлада и горькая
пыль.
Небо нахмарилось. Молния наискось распахала взбугренную черноземно-черную тучу,
долго копилась тишина, и где-то далеко предупреждающе громыхал гром. Ядреный
дождевой сев начал приминать травы. При свете молнии, вторично очертившей круг,
Кошевой увидел ставшую вполнеба бурую тучу, по краям, обугленно-черную, грозную, и на
земле, распростертой под нею, крохотных, сбившихся в кучу лошадей. Гром обрушился с
ужасающей силой, молния стремительно шла к земле. После нового удара из недр тучи
потоками прорвался дождь, степь невнятно зароптала, вихрь сорвал с головы Кошевого
мокрую фуражку, с силой пригнул его к луке седла. С минуту чернея полоскалась тишина,
потом вновь по небу заджигитовала молния, усугубив дьявольскую темноту. Последующий
удар грома был столь силен, сух и раскатисто-трескуч, что лошадь Кошевого присела и,
вспрянув, завилась в дыбки. Лошади в косяке затопотали. Со всей силой натягивая поводья,
Кошевой крикнул, желая ободрить лошадей:
— Стой!.. Тррр!..
При сахарно-белом зигзаге молний, продолжительно скользившем по гребням тучи,
Кошевой увидел, как косяк мчался на него. Лошади стлались в бешеном намете, почти
касаясь лоснящимися мордами земли. Раздутые ноздри их с храпом хватали воздух,
некованые копыта выбивали сырой гул. Впереди, забирая предельную скорость, шел Бахарь.
Кошевой рванул лошадь в сторону и едва-едва успел проскочить. Лошади промчались и