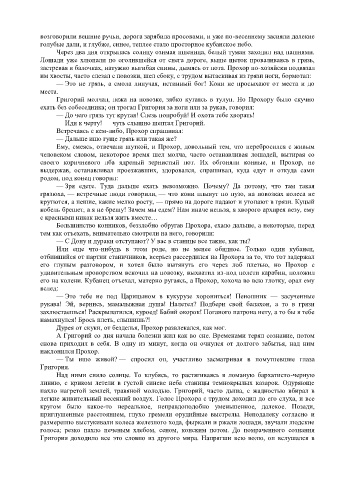Page 770 - Тихий Дон
P. 770
возговорили вешние ручьи, дорога зарябила просовами, и уже по-весеннему засияли далекие
голубые дали, и глубже, синее, теплее стало просторное кубанское небо.
Через два дня открылась солнцу озимая пшеница, белый туман заходил над пашнями.
Лошади уже хлюпали по оголившейся от снега дороге, выше щеток проваливаясь в грязь,
застревая в балочках, натужно выгибая спины, дымясь от пота. Прохор по-хозяйски подвязал
им хвосты, часто слезал с повозки, шел сбоку, с трудом вытаскивая из грязи ноги, бормотал:
— Это не грязь, а смола липучая, истинный бог! Кони не просыхают от места и до
места.
Григорий молчал, лежа на повозке, зябко кутаясь в тулуп. Но Прохору было скучно
ехать без собеседника; он трогал Григория за ноги или за рукав, говорил:
— До чего грязь тут крутая! Слезь попробуй! И охота тебе хворать!
— Иди к черту! — чуть слышно шептал Григорий.
Встречаясь с кем-либо, Прохор спрашивал:
— Дальше ишо гуще грязь или такая же?
Ему, смеясь, отвечали шуткой, и Прохор, довольный тем, что перебросился с живым
человеком словом, некоторое время шел молча, часто останавливая лошадей, вытирая со
своего коричневого лба ядреный зернистый пот. Их обгоняли конные, и Прохор, не
выдержав, останавливал проезжавших, здоровался, спрашивал, куда едут и откуда сами
родом, под конец говорил:
— Зря едете. Туда дальше ехать невозможно. Почему? Да потому, что там такая
грязюха, — встречные люди говорили, — что кони плывут по пузо, на повозках колеса не
крутются, а пешие, какие мелко росту, — прямо на дороге падают и утопают в грязи. Куцый
кобель брешет, а я не брешу! Зачем мы едем? Нам иначе нельзя, я хворого архирея везу, ему
с красными никак нельзя жить вместе…
Большинство конников, беззлобно обругав Прохора, ехало дальше, а некоторые, перед
тем как отъехать, внимательно смотрели на него, говорили:
— С Дону и дураки отступают? У вас в станице все такие, как ты?
Или еще что-нибудь в этом роде, но не менее обидное. Только один кубанец,
отбившийся от партии станичников, всерьез рассердился на Прохора за то, что тот задержал
его глупым разговором, и хотел было вытянуть его через лоб плетью, но Прохор с
удивительным проворством вскочил на повозку, выхватил из-под полсти карабин, положил
его на колени. Кубанец отъехал, матерно ругаясь, а Прохор, хохоча во всю глотку, орал ему
вслед:
— Это тебе не под Царицыном в кукурузе хорониться! Пеношник — засученные
рукава! Эй, вернись, мамалыжная душа! Налетел? Подбери свой балахон, а то в грязи
захлюстаешься! Раскрылатился, куроед! Бабий окорок! Поганого патрона нету, а то бы я тебе
намахнулся! Брось плеть, слышишь?!
Дурея от скуки, от безделья, Прохор развлекался, как мог.
А Григорий со дня начала болезни жил как во сне. Временами терял сознание, потом
снова приходил в себя. В одну из минут, когда он очнулся от долгого забытья, над ним
наклонился Прохор.
— Ты ишо живой? — спросил он, участливо засматривая в помутневшие глаза
Григория.
Над ними сияло солнце. То клубясь, то растягиваясь в ломаную бархатисто-черную
линию, с криком летели в густой синеве неба станицы темнокрылых казарок. Одуряюще
пахло нагретой землей, травяной молодью. Григорий, часто дыша, с жадностью вбирал в
легкие живительный весенний воздух. Голос Прохора с трудом доходил до его слуха, и все
кругом было какое-то нереальное, неправдоподобно уменьшенное, далекое. Позади,
приглушенные расстоянием, глухо гремели орудийные выстрелы. Неподалеку согласно и
размеренно выстукивали колеса железного хода, фыркали и ржали лошади, звучали людские
голоса; резко пахло печеным хлебом, сеном, конским потом. До помраченного сознания
Григория доходило все это словно из другого мира. Напрягши всю волю, он вслушался в