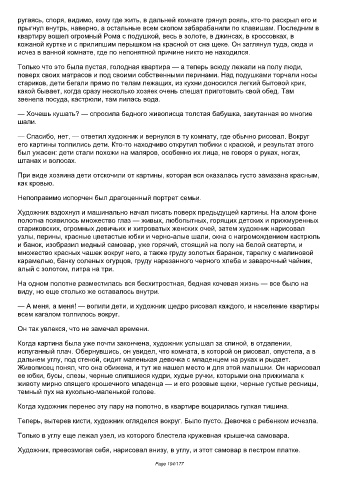Page 104 - Настоящие сказки
P. 104
ругаясь, споря, видимо, кому где жить, в дальней комнате грянул рояль, кто-то раскрыл его и
прыгнул внутрь, наверно, а остальные всем скопом забарабанили по клавишам. Последним в
квартиру вошел огромный Рома с подушкой, весь в золоте, в джинсах, в кроссовках, в
кожаной куртке и с прилипшим перышком на красной от сна щеке. Он заглянул туда, сюда и
исчез в ванной комнате, где по непонятной причине никто не находился.
Только что это была пустая, голодная квартира — а теперь всюду лежали на полу люди,
поверх своих матрасов и под своими собственными перинами. Над подушками торчали носы
стариков, дети бегали прямо по телам лежащих, из кухни доносился легкий бытовой крик,
какой бывает, когда сразу несколько хозяек очень спешат приготовить свой обед. Там
звенела посуда, кастрюли, там лилась вода.
— Хочешь кушать? — спросила бедного живописца толстая бабушка, закутанная во многие
шали.
— Спасибо, нет, — ответил художник и вернулся в ту комнату, где обычно рисовал. Вокруг
его картины толпились дети. Кто-то находчиво открутил тюбики с краской, и результат этого
был ужасен: дети стали похожи на маляров, особенно их лица, не говоря о руках, ногах,
штанах и волосах.
При виде хозяина дети отскочили от картины, которая вся оказалась густо замазана красным,
как кровью.
Непоправимо испорчен был драгоценный портрет семьи.
Художник вздохнул и машинально начал писать поверх предыдущей картины. На алом фоне
полотна появилось множество глаз — живых, любопытных, горящих детских и прижмуренных
стариковских, огромных девичьих и хитроватых женских очей, затем художник нарисовал
узлы, перины, красные цветастые юбки и черно-алые шали, окна с нагромождением кастрюль
и банок, изобразил медный самовар, уже горячий, стоящий на полу на белой скатерти, и
множество красных чашек вокруг него, а также груду золотых баранок, тарелку с малиновой
карамелью, банку соленых огурцов, груду нарезанного черного хлеба и заварочный чайник,
алый с золотом, литра на три.
На одном полотне разместилась вся бесхитростная, бедная кочевая жизнь — все было на
виду, но еще столько же оставалось внутри.
— А меня, а меня! — вопили дети, и художник щедро рисовал каждого, и население квартиры
всем кагалом толпилось вокруг.
Он так увлекся, что не замечал времени.
Когда картина была уже почти закончена, художник услышал за спиной, в отдалении,
испуганный плач. Обернувшись, он увидел, что комната, в которой он рисовал, опустела, а в
дальнем углу, под стеной, сидит маленькая девочка с младенцем на руках и рыдает.
Живописец понял, что она обижена, и тут же нашел место и для этой малышки. Он нарисовал
ее юбки, бусы, слезы, черные слипшиеся кудри, худые ручки, которыми она прижимала к
животу мирно спящего крошечного младенца — и его розовые щеки, черные густые ресницы,
темный пух на кукольно-маленькой голове.
Когда художник перенес эту пару на полотно, в квартире воцарилась гулкая тишина.
Теперь, вытерев кисти, художник огляделся вокруг. Было пусто. Девочка с ребенком исчезла.
Только в углу еще лежал узел, из которого блестела кружевная крышечка самовара.
Художник, превозмогая себя, нарисовал внизу, в углу, и этот самовар в пестром платке.
Page 104/177