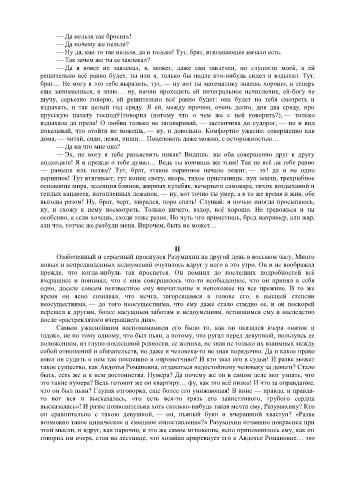Page 107 - Преступление и наказание
P. 107
— Да нельзя так бросить!
— Да почему же нельзя?
— Ну да, как-то так нельзя, да и только! Тут, брат, втягивающее начало есть.
— Так зачем же ты ее завлекал?
— Да я вовсе не завлекал, я, может, даже сам завлечен, по глупости моей, а ей
решительно всё равно будет, ты или я, только бы подле кто-нибудь сидел и вздыхал. Тут,
брат… Не могу я это тебе выразить, тут, — ну вот ты математику знаешь хорошо, и теперь
еще занимаешься, я знаю… ну, начни проходить ей интегральное исчисление, ей-богу не
шучу, серьезно говорю, ей решительно всё равно будет: она будет на тебя смотреть и
вздыхать, и так целый год сряду. Я ей, между прочим, очень долго, дня два сряду, про
прусскую палату господ91говорил (потому что о чем же с ней говорить?), — только
вздыхала да прела! О любви только не заговаривай, — застенчива до судорог, — но и вид
показывай, что отойти не можешь, — ну, и довольно. Комфортно ужасно; совершенно как
дома, — читай, сиди, лежи, пиши… Поцеловать даже можно, с осторожностью…
— Да на что мне она?
— Эх, не могу я тебе разъяснить никак! Видишь: вы оба совершенно друг к другу
подходите! Я и прежде о тебе думал… Ведь ты кончишь же этим! Так не всё ли тебе равно
— раньше иль позже? Тут, брат, этакое перинное начало лежит, — эх! да и не одно
перинное! Тут втягивает; тут конец свету, якорь, тихое пристанище, пуп земли, трехрыбное
основание мира, эссенция блинов, жирных кулебяк, вечернего самовара, тихих воздыханий и
теплых кацавеек, натопленных лежанок, — ну, вот точно ты умер, а в то же время и жив, обе
выгоды разом! Ну, брат, черт, заврался, пора спать! Слушай: я ночью иногда просыпаюсь,
ну, и схожу к нему посмотреть. Только ничего, вздор, всё хорошо. Не тревожься и ты
особенно, а если хочешь, сходи тоже разик. Но чуть что приметишь, бред например, али жар,
али что, тотчас же разбуди меня. Впрочем, быть не может…
II
Озабоченный и серьезный проснулся Разумихин на другой день в восьмом часу. Много
новых и непредвиденных недоумений очутилось вдруг у него в это утро. Он и не воображал
прежде, что когда-нибудь так проснется. Он помнил до последних подробностей всё
вчерашнее и понимал, что с ним совершилось что-то необыденное, что он принял в себя
одно, доселе совсем неизвестное ему впечатление и непохожее на все прежние. В то же
время он ясно сознавал, что мечта, загоревшаяся в голове его, в высшей степени
неосуществима, — до того неосуществима, что ему даже стало стыдно ее, и он поскорей
перешел к другим, более насущным заботам и недоумениям, оставшимся ему в наследство
после «растреклятого вчерашнего дня».
Самым ужаснейшим воспоминанием его было то, как он оказался вчера «низок и
гадок», не по тому одному, что был пьян, а потому, что ругал перед девушкой, пользуясь ее
положением, из глупо-поспешной ревности, ее жениха, не зная не только их взаимных между
собой отношений и обязательств, но даже и человека-то не зная порядочно. Да и какое право
имел он судить о нем так поспешно и опрометчиво? И кто звал его в судьи! И разве может
такое существо, как Авдотья Романовна, отдаваться недостойному человеку за деньги? Стало
быть, есть же и в нем достоинства. Нумера? Да почему же он в самом деле мог узнать, что
это такие нумера? Ведь готовит же он квартиру… фу, как это всё низко! И что за оправдание,
что он был пьян? Глупая отговорка, еще более его унижающая! В вине — правда, и правда-
то вот вся и высказалась, «то есть вся-то грязь его завистливого, грубого сердца
высказалась»! И разве позволительна хоть сколько-нибудь такая мечта ему, Разумихину? Кто
он сравнительно с такою девушкой, — он, пьяный буян и вчерашний хвастун? «Разве
возможно такое циническое и смешное сопоставление?» Разумихин отчаянно покраснел при
этой мысли, и вдруг, как нарочно, в это же самое мгновение, ясно припомнилось ему, как он
говорил им вчера, стоя на лестнице, что хозяйка приревнует его к Авдотье Романовне… это