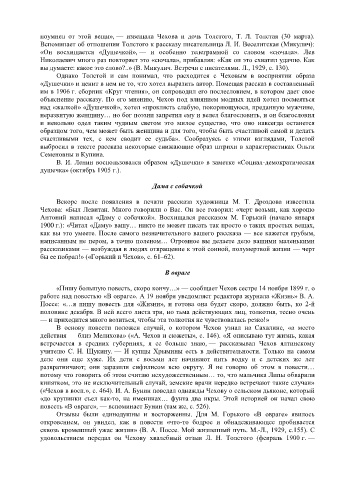Page 485 - Рассказы. Повести. Пьесы
P. 485
поумнел от этой вещи», — извещала Чехова и дочь Толстого, Т. Л. Толстая (30 марта).
Вспоминает об отношении Толстого к рассказу писательница Л. И. Веселитская (Микулич):
«Он восхищается «Душечкой», — и особенно телеграммой со словом «сючала». Лев
Николаевич много раз повторяет это «сючала», прибавляя: «Как он это схватил удачно. Как
вы думаете: какое это слово?..» (В. Микулич. Встречи с писателями. Л., 1929, с. 130).
Однако Толстой и сам понимал, что расходится с Чеховым в восприятии образа
«Душечки» и ценит в нем не то, что хотел выразить автор. Помещая рассказ в составленный
им в 1906 г. сборник «Круг чтения», он сопроводил его послесловием, в котором дает свое
объяснение рассказу. По его мнению, Чехов под влиянием модных идей хотел посмеяться
над «жалкой» «Душечкой», хотел «проклясть слабую, покоряющуюся, преданную мужчине,
неразвитую женщину… но бог поэзии запретил ему и велел благословить, и он благословил
и невольно одел таким чудным светом это милое существо, что оно навсегда останется
образцом того, чем может быть женщина и для того, чтобы быть счастливой самой и делать
счастливыми тех, с кем сводит ее судьба». Сообразуясь с этими взглядами, Толстой
выбросил в тексте рассказа некоторые снижающие образ штрихи в характеристиках Ольги
Семеновны и Купина.
В. И. Ленин воспользовался образом «Душечки» в заметке «Социал-демократическая
душечка» (октябрь 1905 г.).
Дама с собачкой
Вскоре после появления в печати рассказа художница М. Т. Дроздова известила
Чехова: «Был Левитан. Много говорили о Вас. Он все говорил: «черт возьми, как хорошо
Антоний написал «Даму с собачкой». Восхищался рассказом М. Горький (начало января
1900 г.): «Читал «Даму» вашу… никто не может писать так просто о таких простых вещах,
как вы это умеете. После самого незначительного вашего рассказа — все кажется грубым,
написанным не пером, а точно поленом… Огромное вы делаете дело вашими маленькими
рассказиками — возбуждая в людях отвращение к этой сонной, полумертвой жизни — черт
бы ее побрал!» («Горький и Чехов», с. 61–62).
В овраге
«Пишу большую повесть, скоро кончу…» — сообщает Чехов сестре 14 ноября 1899 г. о
работе над повестью «В овраге». А 19 ноября уведомляет редактора журнала «Жизнь» В. А.
Поссе: «…я пишу повесть для «Жизни», и готова она будет скоро, должно быть, ко 2-й
половине декабря. В ней всего листа три, но тьма действующих лиц, толкотня, тесно очень
— и приходится много возиться, чтобы эта толкотня не чувствовалась резко!»
В основу повести положен случай, о котором Чехов узнал на Сахалине, «а место
действия — близ Мелихова» («А. Чехов и сюжеты», с. 146). «Я описываю тут жизнь, какая
встречается в средних губерниях, я ее больше знаю, — рассказывал Чехов ялтинскому
учителю С. Н. Щукину. — И купцы Хрымины есть в действительности. Только на самом
деле они еще хуже. Их дети с восьми лет начинают пить водку и с детских же лет
развратничают; они заразили сифилисом всю округу. Я не говорю об этом в повести…
потому что говорить об этом считаю нехудожественным… то, что мальчика Липы обварили
кипятком, это не исключительный случай, земские врачи нередко встречают такие случаи»
(«Чехов в восп.», с. 464). И. А. Бунин поведал однажды Чехову о сельском дьяконе, который
«до крупинки съел как-то, на именинах… фунта два икры. Этой историей он начал свою
повесть «В овраге», — вспоминает Бунин (там же, с. 526).
Отзывы были единодушны и восторженны. Для М. Горького «В овраге» явилось
откровением, он увидел, как в повести «что-то бодрое и обнадеживающее пробивается
сквозь кромешный ужас жизни» (В. А. Поссе. Мой жизненный путь. М.-Л., 1929, с.155). С
удовольствием передал он Чехову хвалебный отзыв Л. Н. Толстого (февраль 1900 г. —