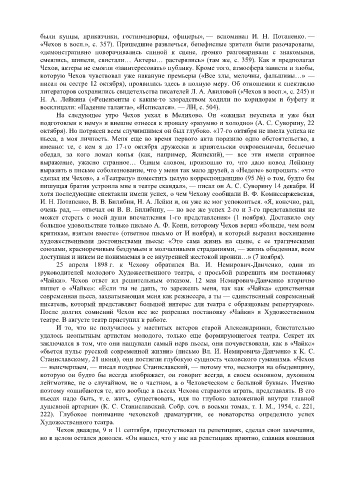Page 489 - Рассказы. Повести. Пьесы
P. 489
были купцы, приказчики, гостинодворцы, офицеры», — вспоминал И. Н. Потапенко. —
«Чехов в восп.», с. 357). Пришедшие развлечься, бенефисные зрители были разочарованы,
«демонстративно поворачивались спиной к сцене, громко разговаривали с знакомыми,
смеялись, шипели, свистали… Актеры… растерялись» (там же, с. 359). Как и предполагал
Чехов, актеры не смогли «заинтересовать» публику. Кроме того, атмосфера зависти и злобы,
которую Чехов чувствовал уже накануне премьеры («Все злы, мелочны, фальшивы…» —
писал он сестре 12 октября), проявилась здесь в полную меру. Об отношении к спектаклю
литераторов сохранились свидетельства писателей Л. А. Авиловой («Чехов в восп.», с. 245) и
Н. А. Лейкина («Рецензенты с каким-то злорадством ходили по коридорам и буфету и
восклицали: «Падение таланта», «Исписался». — ЛН, с. 504).
На следующее утро Чехов уехал в Мелихово. Он «ожидал неуспеха и уже был
подготовлен к нему» и внешне отнесся к провалу «разумно и холодно» (А. С. Суворину, 22
октября). Но потрясен всем случившимся он был глубоко. «17-го октября не имела успеха не
пьеса, а моя личность. Меня еще во время первого акта поразило одно обстоятельство, а
именно: те, с кем я до 17-го октября дружески и приятельски откровенничал, беспечно
обедал, за кого ломал копья (как, например, Ясинский), — все эти имели странное
выражение, ужасно странное… Одним словом, произошло то, что дало повод Лейкину
выразить в письме соболезнование, что у меня так мало друзей, а «Неделе» вопрошать: «что
сделал им Чехов», а «Театралу» поместить целую корреспонденцию (95 №) о том, будто бы
пишущая братия устроила мне в театре скандал», — писал он А. С. Суворину 14 декабря. И
хотя последующие спектакли имели успех, о чем Чехову сообщали В. Ф. Комиссаржевская,
И. Н. Потапенко, В. В. Билибин, Н. А. Лейки и, он уже не мог успокоиться. «Я, конечно, рад,
очень рад, — отвечал он В. В. Билибипу, — но все же успех 2-го и 3-го представления не
может стереть с моей души впечатления 1-го представления» (1 ноября). Доставило ему
большое удовольствие только письмо А. Ф. Кони, которому Чехов верил «больше, чем всем
критикам, взятым вместе» (ответное письмо от И ноября), и который выразил восхищение
художественными достоинствами пьесы: «Это сама жизнь на сцене, с ее трагическими
союзами, красноречивым бездумьем и молчаливыми страданиями, — жизнь обыденная, всем
доступная и никем не понимаемая в ее внутренней жестокой иронии…» (7 ноября).
25 апреля 1898 г. к Чехову обратился Вл. И. Немирович-Данченко, один из
руководителей молодого Художественного театра, с просьбой разрешить им постановку
«Чайки». Чехов ответ ил решительным отказом. 12 мая Немирович-Данченко вторично
пишет о «Чайке»: «Если ты не дашь, то зарежешь меня, так как «Чайка» единственная
современная пьеса, захватывающая меня как режиссера, а ты — единственный современный
писатель, который представляет большой интерес для театра с образцовым репертуаром».
После долгих сомнений Чехов все же разрешил постановку «Чайки» в Художественном
театре. В августе театр приступил к работе.
И то, что не получилось у маститых актеров старой Александринки, блистательно
удалось неопытным артистам молодого, только еще формирующегося театра. Секрет их
заключался в том, что они нащупали самый нерв пьесы, они почувствовали, как в «Чайке»
«бьется пульс русской современной жизни» (письмо Вл. И. Немировича-Данченко к К. С.
Станиславскому, 21 июня), они постигли глубокую сущность чеховского гуманизма. «Чехов
— неисчерпаем, — писал позднее Станиславский, — потому что, несмотря на обыденщину,
которую он будто бы всегда изображает, он говорит всегда, в своем основном, духовном
лейтмотиве, не о случайном, не о частном, а о Человеческом с большой буквы». Именно
поэтому «ошибаются те, кто вообще в пьесах Чехова стараются играть, представлять. В его
пьесах надо быть, т. е. жить, существовать, идя по глубоко заложенной внутри главной
душевной артерии» (К. С. Станиславский. Собр. соч. в восьми томах, т. I. М., 1954, с. 221,
222). Глубокое понимание чеховской драматургии, ее новаторства определило успех
Художественного театра.
Чехов дважды, 9 и 11 сентября, присутствовал на репетициях, сделал свои замечания,
но в целом остался доволен. «Он нашел, что у нас на репетициях приятно, славная компания