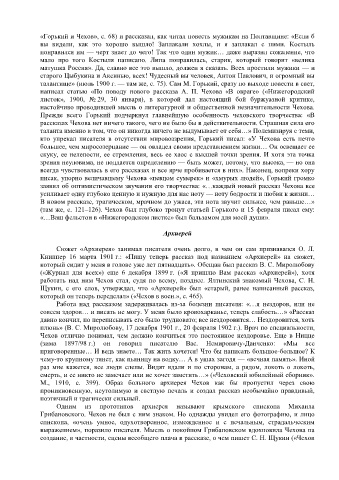Page 486 - Рассказы. Повести. Пьесы
P. 486
«Горький и Чехов», с. 68) и рассказал, как читал повесть мужикам на Полтавщине: «Если б
вы видели, как это хорошо вышло! Заплакали хохлы, и я заплакал с ними. Костыль
понравился им — черт знает до чего! Так что один мужик… даже выразил сожаление, что
мало про того Костыля написано. Липа понравилась, старик, который говорит «велика
матушка Россия». Да, славно все это вышло, должен я сказать. Всех простили мужики — и
старого Цыбукина и Аксинью, всех! Чудесный вы человек, Антон Павлович, и огромный вы
талантище» (июль 1900 г. — там же, с. 75). Сам М. Горький, сразу по выходе повести в свет,
написал статью «По поводу нового рассказа А. П. Чехова «В овраге» («Нижегородский
листок», 1900, № 29, 30 января), в которой дал настоящий бой буржуазной критике,
настойчиво проводившей мысль о литературной и общественной незначительности Чехова.
Прежде всего Горький подчеркнул главнейшую особенность чеховского творчества: «В
рассказах Чехова нет ничего такого, чего не было бы в действительности. Страшная сила его
таланта именно в том, что он никогда ничего не выдумывает от себя…» Полемизируя с теми,
кто упрекал писателя в отсутствии мировоззрения, Горький писал: «У Чехова есть нечто
большее, чем миросозерцание — он овладел своим представлением жизни… Он освещает ее
скуку, ее нелепости, ее стремления, весь ее хаос с высшей точки зрения. И хотя эта точка
зрения неуловима, не поддается определению — быть может, потому, что высока, — но она
всегда чувствовалась в его рассказах и все ярче пробивается в них». Наконец, вопреки хору
писак, упорно величавшему Чехова «певцом сумерек» и «хмурых людей», Горький громко
заявил об оптимистическом звучании его творчества: «…каждый новый рассказ Чехова все
усиливает одну глубоко ценную и нужную для нас ноту — ноту бодрости и любви к жизни…
В новом рассказе, трагическом, мрачном до ужаса, эта нота звучит сильнее, чем раньше…»
(там же, с. 121–126). Чехов был глубоко тронут статьей Горького и 15 февраля писал ему:
«…Ваш фельетон в «Нижегородском листке» был бальзамом для моей души».
Архиерей
Сюжет «Архиерея» занимал писателя очень долго, в чем он сам признавался О. Л.
Книппер 16 марта 1901 г.: «Пишу теперь рассказ под названием «Архиерей» на сюжет,
который сидит у меня в голове уже лет пятнадцать». Обещан был рассказ В. С. Миролюбову
(«Журнал для всех») еще 6 декабря 1899 г. («Я пришлю Вам рассказ «Архиерей»), хотя
работать над ним Чехов стал, судя по всему, позднее. Ялтинский знакомый Чехова, С. Н.
Щукин, с его слов, утверждал, что «Архиерей» был «старый, ранее написанный рассказ,
который он теперь переделал» («Чехов в воен.», с. 465).
Работа над рассказом задерживалась из-за болезни писателя: «…я нездоров, или не
совсем здоров… и писать не могу. У меня было кровохарканье, теперь слабость…» «Рассказ
давно кончил, по переписывать его было трудновато; все нездоровится… Нездоровится, хоть
плюнь» (В. С. Миролюбову, 17 декабря 1901 г., 20 февраля 1902 г.). Врач по специальности,
Чехов отлично понимал, чем должно кончиться это постоянное нездоровье. Еще в Ницце
(зима 1897/98 г.) он говорил писателю Вас. Немировичу-Данченко: «Мы все
приговоренные… И ведь знаете… Так жить хочется! Что бы написать большое-большое? К
чему-то крупному тянет, как пьяницу на водку… А в ушах загодя — «вечная память». Иной
раз мне кажется, все люди слепы. Видят вдали и по сторонам, а рядом, локоть о локоть,
смерть, и ее никто не замечает или не хочет заметить…» («Чеховский юбилейный сборник».
М., 1910, с. 399). Образ больного архиерея Чехов как бы пропустил через свою
проникновенную, неутолимую и светлую печаль и создал рассказ необычайно правдивый,
поэтичный и трагически сильный.
Одним из прототипов архиерея называют крымского епископа Михаила
Грибановского. Чехов не был с ним знаком. Но однажды увидел его фотографию, и лицо
епископа, «очень умное, одухотворенное, изможденное и с печальным, страдальческим
выражением», поразило писателя. Мысль о покойном Грибановском вдохновила Чехова на
создание, в частности, сцены всеобщего плача в рассказе, о чем пишет С. Н. Щукин («Чехов