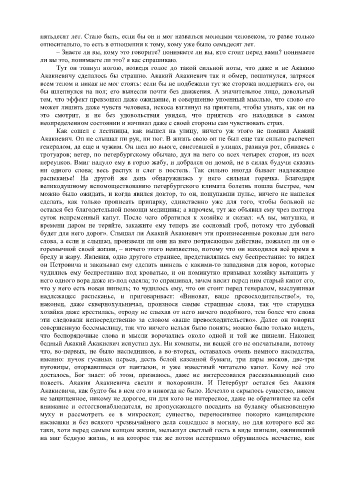Page 13 - Шинель
P. 13
пятьдесят лет. Стало быть, если бы он и мог назваться молодым человеком, то разве только
относительно, то есть в отношении к тому, кому уже было семьдесят лет.
– Знаете ли вы, кому это говорите? понимаете ли вы, кто стоит перед вами? понимаете
ли вы это, понимаете ли это? я вас спрашиваю.
Тут он топнул ногою, возведя голос до такой сильной ноты, что даже и не Акакию
Акакиевичу сделалось бы страшно. Акакий Акакиевич так и обмер, пошатнулся, затрясся
всем телом и никак не мог стоять: если бы не подбежали тут же сторожа поддержать его, он
бы шлепнулся на пол; его вынесли почти без движения. А значительное лицо, довольный
тем, что эффект превзошел даже ожидание, и совершенно упоенный мыслью, что слово его
может лишить даже чувств человека, искоса взглянул на приятеля, чтобы узнать, как он на
это смотрит, и не без удовольствия увидел, что приятель его находился в самом
неопределенном состоянии и начинал даже с своей стороны сам чувствовать страх.
Как сошел с лестницы, как вышел на улицу, ничего уж этого не помнил Акакий
Акакиевич. Он не слышал ни рук, ни ног. В жизнь свою он не был еще так сильно распечен
генералом, да еще и чужим. Он шел по вьюге, свистевшей в улицах, разинув рот, сбиваясь с
тротуаров; ветер, по петербургскому обычаю, дул на него со всех четырех сторон, из всех
переулков. Вмиг надуло ему в горло жабу, и добрался он домой, не в силах будучи сказать
ни одного слова; весь распух и слег в постель. Так сильно иногда бывает надлежащее
распеканье! На другой же день обнаружилась у него сильная горячка. Благодаря
великодушному вспомоществованию петербургского климата болезнь пошла быстрее, чем
можно было ожидать, и когда явился доктор, то он, пощупавши пульс, ничего не нашелся
сделать, как только прописать припарку, единственно уже для того, чтобы больной не
остался без благодетельной помощи медицины; а впрочем, тут же объявил ему чрез полтора
суток непременный капут. После чего обратился к хозяйке и сказал: «А вы, матушка, и
времени даром не теряйте, закажите ему теперь же сосновый гроб, потому что дубовый
будет для него дорог». Слышал ли Акакий Акакиевич эти произнесенные роковые для него
слова, а если и слышал, произвели ли они на него потрясающее действие, пожалел ли он о
горемычной своей жизни, – ничего этого неизвестно, потому что он находился всё время в
бреду и жару. Явления, одно другого страннее, представлялись ему беспрестанно: то видел
он Петровича и заказывал ему сделать шинель с какими-то западнями для воров, которые
чудились ему беспрестанно под кроватью, и он поминутно призывал хозяйку вытащить у
него одного вора даже из-под одеяла; то спрашивал, зачем висит перед ним старый капот его,
что у него есть новая шинель; то чудилось ему, что он стоит перед генералом, выслушивая
надлежащее распеканье, и приговаривает: «Виноват, ваше превосходительство!», то,
наконец, даже сквернохульничал, произнося самые страшные слова, так что старушка
хозяйка даже крестилась, отроду не слыхав от него ничего подобного, тем более что слова
эти следовали непосредственно за словом «ваше превосходительство». Далее он говорил
совершенную бессмыслицу, так что ничего нельзя было понять; можно было только видеть,
что беспорядочные слова и мысли ворочались около одной и той же шинели. Наконец
бедный Акакий Акакиевич испустил дух. Ни комнаты, ни вещей его не опечатывали, потому
что, во-первых, не было наследников, а во-вторых, оставалось очень немного наследства,
именно: пучок гусиных перьев, десть белой казенной бумаги, три пары носков, две-три
пуговицы, оторвавшиеся от панталон, и уже известный читателю капот. Кому всё это
досталось, Бог знает: об этом, признаюсь, даже не интересовался рассказывающий сию
повесть. Акакия Акакиевича свезли и похоронили. И Петербург остался без Акакия
Акакиевича, как будто бы в нем его и никогда не было. Исчезло и скрылось существо, никем
не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное, даже не обратившее на себя
внимание и естествонаблюдателя, не пропускающего посадить на булавку обыкновенную
муху и рассмотреть ее в микроскоп; существо, переносившее покорно канцелярские
насмешки и без всякого чрезвычайного дела сошедшее в могилу, но для которого всё же
таки, хотя перед самым концом жизни, мелькнул светлый гость в виде шинели, ожививший
на миг бедную жизнь, и на которое так же потом нестерпимо обрушилось несчастие, как