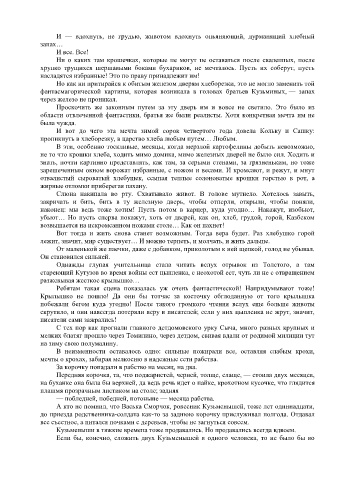Page 2 - Ночевала тучка золотая
P. 2
И — вдохнуть, не грудью, животом вдохнуть опьяняющий, дурманящий хлебный
запах…
И все. Все!
Ни о каких там крошечках, которые не могут не оставаться после сваленных, после
хрупко трущихся шершавыми боками бухариков, не мечталось. Пусть их соберут, пусть
насладятся избранные! Это по праву принадлежит им!
Но как ни притирайся к обитым железом дверям хлеборезки, это не могло заменить той
фантасмагорической картины, которая возникала в головах братьев Кузьминых, — запах
через железо не проникал.
Проскочить же законным путем за эту дверь им и вовсе не светило. Это было из
области отвлеченной фантастики, братья же были реалисты. Хотя конкретная мечта им не
была чужда.
И вот до чего эта мечта зимой сорок четвертого года довела Кольку и Сашку:
проникнуть в хлеборезку, в царство хлеба любым путем… Любым.
В эти, особенно тоскливые, месяцы, когда мерзлой картофелины добыть невозможно,
не то что крошки хлеба, ходить мимо домика, мимо железных дверей не было сил. Ходить и
знать, почти картинно представлять, как там, за серыми стенами, за грязненьким, но тоже
зарешеченным окном ворожат избранные, с ножом и весами. И кромсают, и режут, и мнут
отвалистый сыроватый хлебушек, ссыпая теплые солоноватые крошки горстью в рот, а
жирные отломки приберегая пахану.
Слюна накипала во рту. Схватывало живот. В голове мутнело. Хотелось завыть,
закричать и бить, бить в ту железную дверь, чтобы отперли, открыли, чтобы поняли,
наконец: мы ведь тоже хотим! Пусть потом в карцер, куда угодно… Накажут, изобьют,
убьют… Но пусть сперва покажут, хоть от дверей, как он, хлеб, грудой, горой, Казбеком
возвышается на искромсанном ножами столе… Как он пахнет!
Вот тогда и жить снова станет возможным. Тогда вера будет. Раз хлебушко горой
лежит, значит, мир существует… И можно терпеть, и молчать, и жить дальше.
От маленькой же паечки, даже с добавком, приколотым к ней щепкой, голод не убывал.
Он становился сильней.
Однажды глупая учительница стала читать вслух отрывок из Толстого, а там
стареющий Кутузов во время войны ест цыпленка, с неохотой ест, чуть ли не с отвращением
разжевывая жесткое крылышко…
Ребятам такая сцена показалась уж очень фантастической! Напридумывают тоже!
Крылышко не пошло! Да они бы тотчас за косточку обглоданную от того крылышка
побежали бегом куда угодно! После такого громкого чтения вслух еще больше животы
скрутило, и они навсегда потеряли веру в писателей; если у них цыпленка не жрут, значит,
писатели сами зажрались!
С тех пор как прогнали главного детдомовского урку Сыча, много разных крупных и
мелких блатяг прошло через Томилино, через детдом, свивая вдали от родимой милиции тут
на зиму свою полумалину.
В неизменности оставалось одно: сильные пожирали все, оставляя слабым крохи,
мечты о крохах, забирая мелкосню в надежные сети рабства.
За корочку попадали в рабство на месяц, на два.
Передняя корочка, та, что поджаристей, черней, толще, слаще, — стоила двух месяцев,
на буханке она была бы верхней, да ведь речь идет о пайке, крохотном кусочке, что глядится
плашмя прозрачным листиком на столе; задняя
— побледней, победней, потоньше — месяца рабства.
А кто не помнил, что Васька Сморчок, ровесник Кузьменышей, тоже лет одиннадцати,
до приезда родственника-солдата как-то за заднюю корочку прислуживал полгода. Отдавал
все съестное, а питался почками с деревьев, чтобы не загнуться совсем.
Кузьменыши в тяжкие времена тоже продавались. Но продавались всегда вдвоем.
Если бы, конечно, сложить двух Кузьменышей в одного человека, то не было бы во