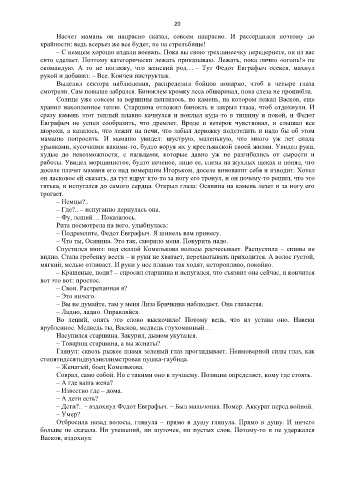Page 20 - А зори здесь тихие
P. 20
20
Насчет мамань он напрасно сказал, совсем напрасно. И рассердился поэтому до
крайности: ведь всерьез же все будет, не на стрельбище!
– С немцем хорошо издали воевать. Пока вы свою трехлинеечку передернете, он из вас
сито сделает. Поэтому категорически лежать приказываю. Лежать, пока лично «огонь!» не
скомандую. А то не погляжу, что женский род… – Тут Федот Евграфыч осекся, махнул
рукой и добавил: – Все. Кончен инструктаж.
Выделил сектора наблюдения, распределил бойцов попарно, чтоб в четыре глаза
смотрели. Сам повыше забрался. Биноклем кромку леса обшаривал, пока слеза не прошибла.
Солнце уже совсем за вершины цеплялось, но камень, на котором лежал Васков, еще
хранил накопленное тепло. Старшина отложил бинокль и закрыл глаза, чтоб отдохнули. И
сразу камень этот теплый плавно качнулся и поплыл куда-то в тишину и покой, и Федот
Евграфыч не успел сообразить, что дремлет. Вроде и ветерок чувствовал, и слышал все
шорохи, а казалось, что лежит на печи, что забыл дерюжку подстелить и надо бы об этом
маманю попросить. И маманю увидел: шуструю, маленькую, что много уж лет спала
урывками, кусочками какими-то, будто воруя их у крестьянской своей жизни. Увидел руки,
худые до невозможности, с пальцами, которые давно уж не разгибались от сырости и
работы. Увидел морщинистое, будто печеное, лицо ее, слезы на жухлых щеках и понял, что
доселе плачет маманя его над помершим Игорьком, доселе виноватит себя и изводит. Хотел
он ласковое ей сказать, да тут вдруг кто-то за ногу его тронул, и он почему-то решил, что это
тятька, и испугался до самого сердца. Открыл глаза: Осянина на камень лезет и за ногу его
трогает.
– Немцы?..
– Где?.. – испуганно дернулась она.
– Фу, леший… Показалось.
Рита посмотрела на него, улыбнулась:
– Подремлите, Федот Евграфыч. Я шинель вам принесу.
– Что ты, Осянина. Это так, сморило меня. Покурить надо.
Спустился вниз: под скалой Комелькова волосы расчесывает. Распустила – спины не
видно. Стала гребенку вести – и руки не хватает, перехватывать приходится. А волос густой,
мягкий, медью отливает. И руки у нее плавно так ходят, неторопливо, покойно.
– Крашеные, поди? – спросил старшина и испугался, что съязвит она сейчас, и кончится
вот это вот: простое.
– Свои. Растрепанная я?
– Это ничего.
– Вы не думайте, там у меня Лиза Бричкина наблюдает. Она глазастая.
– Ладно, ладно. Оправляйся.
Во леший, опять это слово выскочило! Потому ведь, что из устава оно. Навеки
врубленное. Медведь ты, Васков, медведь глухоманный…
Насупился старшина. Закурил, дымом укутался.
– Товарищ старшина, а вы женаты?
Глянул: сквозь рыжее пламя зеленый глаз проглядывает. Неимоверной силы глаз, как
стопятидесятидвухмиллиметровая пушка-гаубица.
– Женатый, боец Комелькова.
Соврал, само собой. Но с такими оно к лучшему. Позиции определяет, кому где стоять.
– А где ваша жена?
– Известно где – дома.
– А дети есть?
– Дети?.. – вздохнул Федот Евграфыч. – Был мальчонка. Помер. Аккурат перед войной.
– Умер?
Отбросила назад волосы, глянула – прямо в душу глянула. Прямо в душу. И ничего
больше не сказала. Ни утешений, ни шуточек, ни пустых слов. Потому-то и не удержался
Васков, вздохнул: