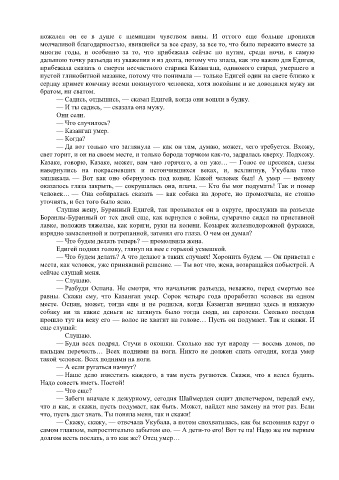Page 6 - И дольше века длится день
P. 6
пожалел он ее в душе с щемящим чувством вины. И оттого еще больше проникся
молчаливой благодарностью, явившейся за все сразу, за все то, что было пережито вместе за
многие годы, и особенно за то, что прибежала сейчас по путям, среди ночи, в самую
дальнюю точку разъезда из уважения и из долга, потому что знала, как это важно для Едигея,
прибежала сказать о смерти несчастного старика Казангапа, одинокого старца, умершего в
пустой глинобитной мазанке, потому что понимала — только Едигей один на свете близко к
сердцу примет кончину всеми покинутого человека, хотя покойник и не доводился мужу ни
братом, ни сватом.
— Садись, отдышись, — сказал Едигей, когда они вошли в будку.
— И ты садись, — сказала она мужу.
Они сели.
— Что случилось?
— Казангап умер.
— Когда?
— Да вот только что заглянула — как он там, думаю, может, чего требуется. Вхожу,
свет горит, и он на своем месте, и только борода торчком как-то, задралась кверху. Подхожу.
Казаке, говорю, Казаке, может, вам чаю горячего, а он уже… — Голос ее пресекся, слезы
навернулись на покрасневших и истончившихся веках, и, всхлипнув, Укубала тихо
заплакала. — Вот как оно обернулось под конец. Какой человек был! А умер — некому
оказалось глаза закрыть, — сокрушалась она, плача. — Кто бы мог подумать! Так и помер
человек… — Она собиралась сказать — как собака на дороге, но промолчала, не стоило
уточнять, и без того было ясно.
Слушая жену, Буранный Едигей, так прозывался он в округе, прослужив на разъезде
Боранлы-Буранный от тех дней еще, как вернулся с войны, сумрачно сидел на приставной
лавке, положив тяжелые, как коряги, руки на колени. Козырек железнодорожной фуражки,
изрядно замасленной и потрепанной, затенял его глаза. О чем он думал?
— Что будем делать теперь? — промолвила жена.
Едигей поднял голову, глянул на нее с горькой усмешкой.
— Что будем делать? А что делают в таких случаях! Хоронить будем. — Он привстал с
места, как человек, уже принявший решение. — Ты вот что, жена, возвращайся побыстрей. А
сейчас слушай меня.
— Слушаю.
— Разбуди Оспана. Не смотри, что начальник разъезда, неважно, перед смертью все
равны. Скажи ему, что Казангап умер. Сорок четыре года проработал человек на одном
месте. Оспан, может, тогда еще и не родился, когда Казангап начинал здесь и никакую
собаку ни за какие деньги не затянуть было тогда сюда, на сарозеки. Сколько поездов
прошло тут на веку его — волос не хватит на голове… Пусть он подумает. Так и скажи. И
еще слушай:
— Слушаю.
— Буди всех подряд. Стучи в окошки. Сколько нас тут народу — восемь домов, по
пальцам перечесть… Всех подними на ноги. Никто не должен спать сегодня, когда умер
такой человек. Всех подними на ноги.
— А если ругаться начнут?
— Наше дело известить каждого, а там пусть ругаются. Скажи, что я велел будить.
Надо совесть иметь. Постой!
— Что еще?
— Забеги вначале к дежурному, сегодня Шаймерден сидит диспетчером, передай ему,
что и как, и скажи, пусть подумает, как быть. Может, найдет мне замену на этот раз. Если
что, пусть даст знать. Ты поняла меня, так и скажи!
— Скажу, скажу, — отвечала Укубала, а потом спохватилась, как бы вспомнив вдруг о
самом главном, непростительно забытом ею. — А дети-то его! Вот те на! Надо же им первым
долгом весть послать, а то как же? Отец умер…