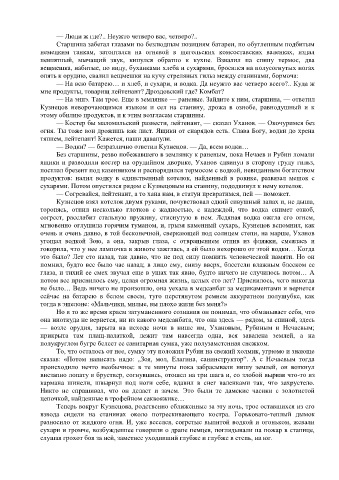Page 199 - Горячий снег
P. 199
— Люди ж где?.. Неужто четверо вас, четверо?..
Старшина забегал глазами по безлюдным позициям батареи, по обугленным подбитым
немецким танкам, затоптался на огневой в щегольских комсоставских валенках, издал
невнятный, мычащий звук, кинулся обратно к кухне. Взвалил на спину термос, два
вещмешка, набитые, по виду, буханками хлеба и сухарями, бросился на полусогнутых ногах
опять к орудию, свалил вещмешки на кучу стреляных гильз между станинами, бормоча:
— На всю батарею… и хлеб, и сухари, и водка. Да неужто вас четверо всего?.. Куда ж
мне продукты, товарищ лейтенант? Дроздовский где? Комбат?
— На энпэ. Там трое. Еще в землянке — раненые. Зайдите к ним, старшина, — ответил
Кузнецов неворочающимся языком и сел на станину, дрожа в ознобе, равнодушный и к
этому обилию продуктов, и к этим возгласам старшины.
— Костер бы маломальский развести, лейтенант, — сказал Уханов. — Окочуримся без
огня. Ты тоже вон дрожишь как лист. Ящики от снарядов есть. Слава Богу, водки до хрена
тяпнем, лейтенант! Кажется, наши даванули.
— Водки? — безразлично ответил Кузнецов. — Да, всем водки…
Без старшины, резво побежавшего в землянку к раненым, пока Нечаев и Рубин ломали
ящики и разводили костер на орудийном дворике, Уханов сдвинул в сторону груду гильз,
постлал брезент под казенником и распорядился термосом с водкой, невиданным богатством
продуктов: налил водку в единственный котелок, найденный в ровике, развязал мешок с
сухарями. Потом опустился рядом с Кузнецовым на станину, пододвинул к нему котелок.
— Согревайся, лейтенант, а то хана нам, в статуи превратимся, пей — поможет.
Кузнецов взял котелок двумя руками, почувствовал едкий сивушный запах и, не дыша,
торопясь, отпил несколько глотков с жадностью, с надеждой, что водка снимет озноб,
согреет, расслабит стальную пружину, стиснутую в нем. Ледяная водка ожгла его огнем,
мгновенно оглушила горячим туманом, и, грызя каменный сухарь, Кузнецов вспомнил, как
очень и очень давно, в той бесконечной, сверкающей под солнцем степи, на марше, Уханов
угощал водкой Зою, а она, закрыв глаза, с отвращением отпив из фляжки, смеялась и
говорила, что у нее лампочка в животе зажглась, а ей было нехорошо от этой водки… Когда
это было? Лет сто назад, так давно, что не под силу помнить человеческой памяти. Но он
помнил, будто все было час назад; в лицо ему, снизу вверх, блестели влажным блеском ее
глаза, и тихий ее смех звучал еще в ушах так явно, будто ничего не случилось потом… А
потом все приснилось ему, целая огромная жизнь, целых сто лет? Приснилось, чего никогда
не было… Ведь ничего не произошло, она уехала в медсанбат за медикаментами и вернется
сейчас на батарею в белом своем, туго перетянутом ремнем аккуратном полушубке, как
тогда в эшелоне: «Мальчики, милые, вы плохо жили без меня?»
Но в то же время краем затуманенного сознания он понимал, что обманывает себя, что
она ниоткуда не вернется, ни из какого медсанбата, что она здесь — рядом, за спиной, здесь
— возле орудия, зарыта на исходе ночи в нише им, Ухановым, Рубиным и Нечаевым;
прикрыта там плащ-палаткой, лежит там навсегда одна, вся завалена землей, а на
полукруглом бугре белеет ее санитарная сумка, уже полузаметенная снежком.
То, что осталось от нее, сумку эту положил Рубин на свежий холмик, угрюмо и знающе
сказав: «Потом написать надо: „Зоя, мол, Елагина, санинструктор“. А с Нечаевым тогда
происходило нечто необычное: в те минуты пока забрасывали нишу землей, он воткнул
внезапно лопату в бруствер, согнувшись, отошел на три шага и, со злобой вырвав что-то из
кармана шинели, швырнул под ноги себе, вдавил в снег валенками так, что захрустело.
Никто не спрашивал, что он делает и зачем. Это были те дамские часики с золотистой
цепочкой, найденные в трофейном саквояжике…
Теперь вокруг Кузнецова, родственно сближенные за эту ночь, трое оставшихся из его
взвода сидели на станинах около потрескивающего костра. Горьковато-теплый дымок
разносило от жидкого огня. И, уже веселея, согретые выпитой водкой и огоньком, жевали
сухари и громче, возбужденнее говорили о драпе немцев, поглядывали на пожар в станице,
слушая грохот боя за ней, заметнее уходивший глубже и глубже в степь, на юг.