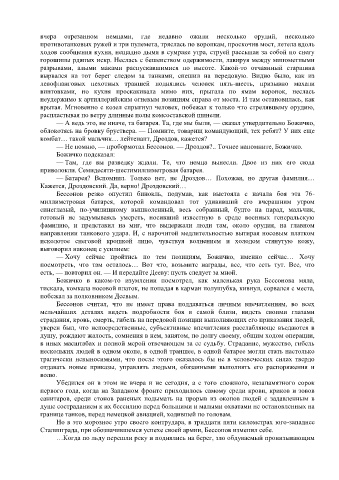Page 196 - Горячий снег
P. 196
вчера отрезанном немцами, где недавно ожили несколько орудий, несколько
противотанковых ружей и три пулемета, тряслась по воронкам, проскочив мост, летела вдоль
ходов сообщения кухня, нещадно дымя в сумраке утра, струей рассыпая за собой по снегу
горошины рдяных искр. Неслась с бешенством одержимости, лавируя между минометными
разрывами, алыми маками распускавшимися по высоте. Какой-то отчаянный старшина
вырвался на тот берег следом за танками, спешил на передовую. Видно было, как из
левофланговых пехотных траншей поднялись человек пять-шесть, призывно махали
винтовками, но кухня проскакивала мимо них, прыгала по ямам воронок, неслась
неудержимо к артиллерийским огневым позициям справа от моста. И там остановилась, как
врытая. Мгновенно с козел спрыгнул человек, побежал к только что стрелявшему орудию,
распластывая по ветру длинные полы комсоставской шинели.
— А ведь это, не иначе, та батарея. Та, где мы были, — сказал утвердительно Божичко,
облокотясь на бровку бруствера. — Помните, товарищ командующий, тех ребят? У них еще
комбат… такой мальчик… лейтенант, Дроздов, кажется?
— Не помню, — пробормотал Бессонов. — Дроздов?.. Точнее напомните, Божичко.
Божичко подсказал:
— Там, где вы разведку ждали. Те, что немца вынесли. Двое из них его сюда
приволокли. Семидесяти-шестимиллиметровая батарея.
— Батарея? Вспомнил. Только нет, не Дроздов… Похожая, но другая фамилия…
Кажется, Дроздовский. Да, верно! Дроздовский…
Бессонов резко опустил бинокль, подумав, как выстояла с начала боя эта 76-
миллиметровая батарея, которой командовал тот удививший его вчерашним утром
синеглазый, по-училищному вышколенный, весь собранный, будто на парад, мальчик,
готовый не задумываясь умереть, носивший известную в среде военных генеральскую
фамилию, и представил на миг, что выдержали люди там, около орудия, на главном
направлении танкового удара. И, с нарочитой медлительностью вытирая носовым платком
исколотое снеговой крошкой лицо, чувствуя волнением и холодом стянутую кожу,
выговорил наконец с усилием:
— Хочу сейчас пройтись по тем позициям, Божичко, именно сейчас… Хочу
посмотреть, что там осталось… Вот что, возьмите награды, все, что есть тут. Все, что
есть, — повторил он. — И передайте Дееву: пусть следует за мной.
Божичко в каком-то изумлении посмотрел, как маленькая рука Бессонова мяла,
тискала, комкала носовой платок, не попадая в карман полушубка, кивнул, сорвался с места,
побежал за полковником Деевым.
Бессонов считал, что не имеет права поддаваться личным впечатлениям, во всех
мельчайших деталях видеть подробности боя в самой близи, видеть своими глазами
страдания, кровь, смерть, гибель на передовой позиции выполняющих его приказания людей,
уверен был, что непосредственные, субъективные впечатления расслабляюще въедаются в
душу, рождают жалость, сомнения в нем, занятом, по долгу своему, общим ходом операции,
в иных масштабах и полной мерой отвечающем за ее судьбу. Страдание, мужество, гибель
нескольких людей в одном окопе, в одной траншее, в одной батарее могли стать настолько
трагически невыносимыми, что после этого оказалось бы не в человеческих силах твердо
отдавать новые приказы, управлять людьми, обязанными выполнять его распоряжения и
волю.
Убедился он в этом не вчера и не сегодня, а с того сложного, незапамятного сорок
первого года, когда на Западном фронте приходилось самому среди крови, криков и зовов
санитаров, среди стонов раненых подымать на прорыв из окопов людей с задавленным в
душе состраданием к их бессилию перед большими и малыми охватами не остановленных на
границе танков, перед немецкой авиацией, ходившей по головам.
Но в это морозное утро своего контрудара, в тридцати пяти километрах юго-западнее
Сталинграда, при обозначившемся успехе своей армии, Бессонов изменил себе.
…Когда по льду перешли реку и поднялись на берег, зло обдуваемый пронизывающим