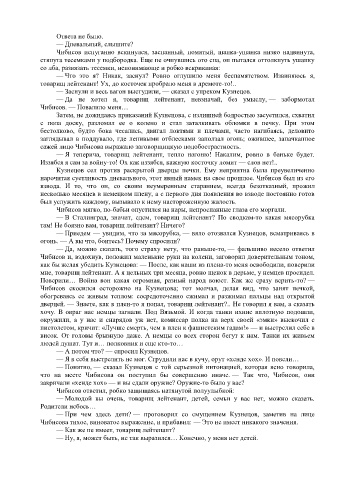Page 2 - Горячий снег
P. 2
Ответа не было.
— Дневальный, слышите?
Чибисов испуганно вскинулся, заспанный, помятый, шапка-ушанка низко надвинута,
стянута тесемками у подбородка. Еще не очнувшись ото сна, он пытался оттолкнуть ушанку
со лба, развязать тесемки, непонимающе и робко вскрикивая:
— Что это я? Никак, заснул? Ровно оглушило меня беспамятством. Извиняюсь я,
товарищ лейтенант! Ух, до косточек пробрало меня в дремоте-то!..
— Заснули и весь вагон выстудили, — сказал с упреком Кузнецов.
— Да не хотел я, товарищ лейтенант, невзначай, без умыслу, — забормотал
Чибисов. — Повалило меня…
Затем, не дожидаясь приказаний Кузнецова, с излишней бодростью засуетился, схватил
с пола доску, разломал ее о колено и стал заталкивать обломки в печку. При этом
бестолково, будто бока чесались, двигал локтями и плечами, часто нагибаясь, деловито
заглядывал в поддувало, где ленивыми отблесками заползал огонь; ожившее, запачканное
сажей лицо Чибисова выражало заговорщицкую подобострастность.
— Я теперича, товарищ лейтенант, тепло нагоню! Накалим, ровно в баньке будет.
Иззябся я сам за войну-то! Ох как иззябся, кажную косточку ломит — слов нет!..
Кузнецов сел против раскрытой дверцы печки. Ему неприятна была преувеличенно
нарочитая суетливость дневального, этот явный намек на свое прошлое. Чибисов был из его
взвода. И то, что он, со своим неумеренным старанием, всегда безотказный, прожил
несколько месяцев в немецком плену, а с первого дня появления во взводе постоянно готов
был услужить каждому, вызывало к нему настороженную жалость.
Чибисов мягко, по-бабьи опустился на нары, непроспанные глаза его моргали.
— В Сталинград, значит, едем, товарищ лейтенант? По сводкам-то какая мясорубка
там! Не боязно вам, товарищ лейтенант? Ничего?
— Приедем — увидим, что за мясорубка, — вяло отозвался Кузнецов, всматриваясь в
огонь. — А вы что, боитесь? Почему спросили?
— Да, можно сказать, того страху нету, что раньше-то, — фальшиво весело ответил
Чибисов и, вздохнув, положил маленькие руки на колени, заговорил доверительным тоном,
как бы желая убедить Кузнецова: — После, как наши из плена-то меня освободили, поверили
мне, товарищ лейтенант. А я цельных три месяца, ровно щенок в дерьме, у немцев просидел.
Поверили… Война вон какая огромная, разный народ воюет. Как же сразу верить-то? —
Чибисов скосился осторожно на Кузнецова; тот молчал, делая вид, что занят печкой,
обогреваясь ее живым теплом: сосредоточенно сжимал и разжимал пальцы над открытой
дверцей. — Знаете, как в плен-то я попал, товарищ лейтенант?.. Не говорил я вам, а сказать
хочу. В овраг нас немцы загнали. Под Вязьмой. И когда танки ихние вплотную подошли,
окружили, а у нас и снарядов уж нет, комиссар полка на верх своей «эмки» выскочил с
пистолетом, кричит: «Лучше смерть, чем в плен к фашистским гадам!» — и выстрелил себе в
висок. От головы брызнуло даже. А немцы со всех сторон бегут к нам. Танки их живьем
людей душат. Тут и… полковник и еще кто-то…
— А потом что? — спросил Кузнецов.
— Я в себя выстрелить не мог. Сгрудили нас в кучу, орут «хенде хох». И повели…
— Понятно, — сказал Кузнецов с той серьезной интонацией, которая ясно говорила,
что на месте Чибисова он поступил бы совершенно иначе. — Так что, Чибисов, они
закричали «хенде хох» — и вы сдали оружие? Оружие-то было у вас?
Чибисов ответил, робко защищаясь натянутой полуулыбкой:
— Молодой вы очень, товарищ лейтенант, детей, семьи у вас нет, можно сказать.
Родители небось…
— При чем здесь дети? — проговорил со смущением Кузнецов, заметив на лице
Чибисова тихое, виноватое выражение, и прибавил: — Это не имеет никакого значения.
— Как же не имеет, товарищ лейтенант?
— Ну, я, может быть, не так выразился… Конечно, у меня нет детей.