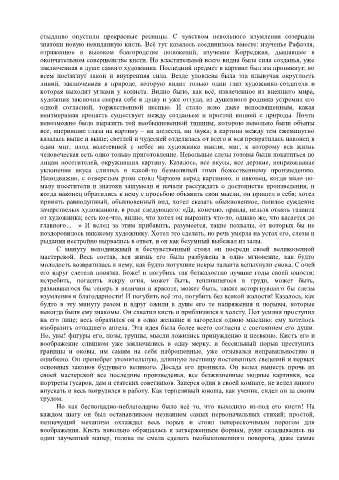Page 47 - Петербурские повести
P. 47
стыдливо опустили прекрасные ресницы. С чувством невольного изумления созерцали
знатоки новую невиданную кисть. Всё тут казалось соединилось вместе: изученье Рафаэля,
отраженное в высоком благородстве положений, изучение Корреджия, дышавшее в
окончательном совершенстве кисти. Но властительней всего видна была сила созданья, уже
заключенная в душе самого художника. Последний предмет в картине был им проникнут; во
всем постигнут закон и внутренняя сила. Везде уловлена была эта плывучая округлость
линий, заключенная в природе, которую видит только один глаз художника-создателя и
которая выходит углами у кописта. Видно было, как всё, извлеченное из внешнего мира,
художник заключил сперва себе в душу и уже оттуда, из душевного родника устремил его
одной согласной, торжественной песнью. И стало ясно даже непосвященным, какая
неизмеримая пропасть существует между созданьем и простой копией с природы. Почти
невозможно было выразить той необыкновенной тишины, которою невольно были объяты
все, вперившие глаза на картину – ни шелеста, ни звука; а картина между тем ежеминутно
казалась выше и выше; светлей и чудесней отделялась от всего и вся превратилась наконец в
один миг, плод налетевшей с небес на художника мысли, миг, к которому вся жизнь
человеческая есть одно только приготовление. Невольные слезы готовы были покатиться по
лицам посетителей, окруживших картину. Казалось, все вкусы, все дерзкие, неправильные
уклонения вкуса слились в какой-то безмолвный гимн божественному произведению.
Неподвижно, с отверстым ртом стоял Чартков перед картиною, и наконец, когда мало-по-
малу посетители и знатоки зашумели и начали рассуждать о достоинстве произведения, и
когда наконец обратились к нему с просьбою объявить свои мысли, он пришел в себя; хотел
принять равнодушный, обыкновенный вид, хотел сказать обыкновенное, пошлое суждение
зачерствелых художников, в роде следующего: «Да, конечно, правда, нельзя отнять таланта
от художника; есть кое-что, видно, что хотел он выразить что-то, однако же, что касается до
главного… » И вслед за этим прибавить, разумеется, такие похвалы, от которых бы не
поздоровилось никакому художнику. Хотел это сделать, но речь умерла на устах его, слезы и
рыдания нестройно вырвались в ответ, и он как безумный выбежал из залы.
С минуту неподвижный и бесчувственный стоял он посреди своей великолепной
мастерской. Весь состав, вся жизнь его была разбужена в одно мгновение, как будто
молодость возвратилась к нему, как будто потухшие искры таланта вспыхнули снова. С очей
его вдруг слетела повязка. Боже! и погубить так безжалостно лучшие годы своей юности;
истребить, погасить искру огня, может быть, теплившегося в груди, может быть,
развившегося бы теперь в величии и красоте, может быть, также исторгнувшего бы слезы
изумления и благодарности! И погубить всё это, погубить без всякой жалости! Казалось, как
будто в эту минуту разом и вдруг ожили в душе его те напряжения и порывы, которые
некогда были ему знакомы. Он схватил кисть и приблизился к холсту. Пот усилия проступил
на его лице; весь обратился он в одно желание и загорелся одною мыслию: ему хотелось
изобразить отпадшего ангела. Эта идея была более всего согласна с состоянием его души.
Но, увы! фигуры его, позы, группы, мысли ложились принужденно и несвязно. Кисть его и
воображение слишком уже заключились в одну мерку, и бессильный порыв преступить
границы и оковы, им самим на себя наброшенные, уже отзывался неправильностию и
ошибкою. Он пренебрег утомительную, длинную лестницу постепенных сведений и первых
основных законов будущего великого. Досада его проникла. Он велел вынесть прочь из
своей мастерской все последние произведенья, все безжизненные модные картинки, все
портреты гусаров, дам и статских советников. Заперся один в своей комнате, не велел никого
впускать и весь погрузился в работу. Как терпеливый юноша, как ученик, сидел он за своим
трудом.
Но как беспощадно-неблагодарно было всё то, что выходило из-под его кисти! На
каждом шагу он был останавливаем незнанием самых первоначальных стихий; простой,
незначущий механизм охлаждал весь порыв и стоял неперескочимым порогом для
воображения. Кисть невольно обращалась к затверженным формам, руки складывались на
один заученный манер, голова не смела сделать необыкновенного поворота, даже самые