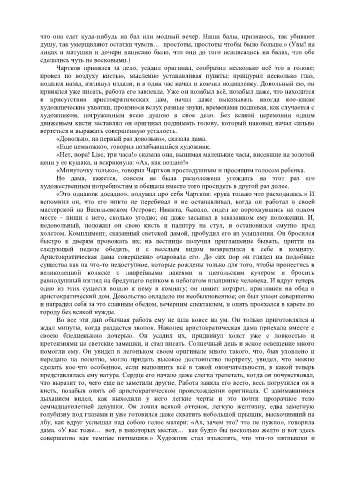Page 42 - Петербурские повести
P. 42
что она едет куда-нибудь на бал или модный вечер. Наши балы, признаюсь, так убивают
душу, так умерщвляют остатки чувств… простоты, простоты чтобы было больше.» (Увы! на
лицах и матушки и дочери написано было, что они до того исплясались на балах, что обе
сделались чуть не восковыми.)
Чартков принялся за дело, усадил оригинал, сообразил несколько всё это в голове;
провел по воздуху кистью, мысленно устанавливая пункты; прищурил несколько глаз,
подался назад, взглянул издали, и в один час начал и кончил подмалевку. Довольный ею, он
принялся уже писать, работа его завлекла. Уже он позабыл всё, позабыл даже, что находится
в присутствии аристократических дам, начал даже выказывать иногда кое-какие
художнические ухватки, произнося вслух разные звуки, временами подпевая, как случается с
художником, погруженным всею душою в свое дело. Без всякой церемонии одним
движеньем кисти заставлял он оригинал поднимать голову, который наконец начал сильно
вертеться и выражать совершенную усталость.
«Довольно, на первый раз довольно», сказала дама.
«Еще немножко», говорил позабывшийся художник.
«Нет, пора! Lise, три часа!» сказала она, вынимая маленькие часы, висевшие на золотой
цепи у ее кушака, и вскрикнула: «Ах, как поздно!»
«Минуточку только», говорил Чартков простодушным и просящим голосом ребенка.
Но дама, кажется, совсем не была расположена угождать на этот раз его
художественным потребностям и обещала вместо того просидеть в другой раз долее.
«Это однакож досадно», подумал про себя Чартков: «рука только что расходилась.» И
вспомнил он, что его никто не перебивал и не останавливал, когда он работал в своей
мастерской на Васильевском Острове; Никита, бывало, сидел не ворохнувшись на одном
месте – пиши с него, сколько угодно; он даже засыпал в заказанном ему положении. И,
недовольный, положил он свою кисть и палитру на стул, и остановился смутно пред
холстом. Комплимент, сказанный светской дамой, пробудил его из усыпления. Он бросился
быстро к дверям провожать их; на лестнице получил приглашение бывать, притти на
следующей неделе обедать, и с веселым видом возвратился к себе в комнату.
Аристократическая дама совершенно очаровала его. До сих пор он глядел на подобные
существа как на что-то недоступное, которые рождены только для того, чтобы пронестись в
великолепной коляске с ливрейными лакеями и щегольским кучером и бросить
равнодушный взгляд на бредущего пешком в небогатом плащишке человека. И вдруг теперь
одно из этих существ вошло к нему в комнату; он пишет портрет, приглашен на обед в
аристократический дом. Довольство овладело им необыкновенное; он был упоен совершенно
и наградил себя за это славным обедом, вечерним спектаклем, и опять проехался в карете по
городу без всякой нужды.
Во все эти дни обычная работа ему не шла вовсе на ум. Он только приготовлялся и
ждал минуты, когда раздастся звонок. Наконец аристократическая дама приехала вместе с
своею бледненькою дочерью. Он усадил их, придвинул холст уже с ловкостью и
претензиями на светские замашки, и стал писать. Солнечный день и ясное освещение много
помогли ему. Он увидел в легоньком своем оригинале много такого, что, быв уловлено и
передано на полотно, могло придать высокое достоинство портрету; увидел, что можно
сделать кое-что особенное, если выполнить всё в такой окончательности, в какой теперь
представлялась ему натура. Сердце его начало даже слегка трепетать, когда он почувствовал,
что выразит то, чего еще не заметили другие. Работа заняла его всего, весь погрузился он в
кисть, позабыв опять об аристократическом происхождении оригинала. С занимавшимся
дыханием видел, как выходили у него легкие черты и это почти прозрачное тело
семнадцатилетней девушки. Он ловил всякой оттенок, легкую желтизну, едва заметную
голубизну под глазами и уже готовился даже схватить небольшой прыщик, выскочивший на
лбу, как вдруг услышал над собою голос матери: «Ах, зачем это? это не нужно», говорила
дама. «У вас тоже… вот, в некоторых местах… как будто бы несколько желто и вот здесь
совершенно как темные пятнышки.» Художник стал изъяснять, что эти-то пятнышки и