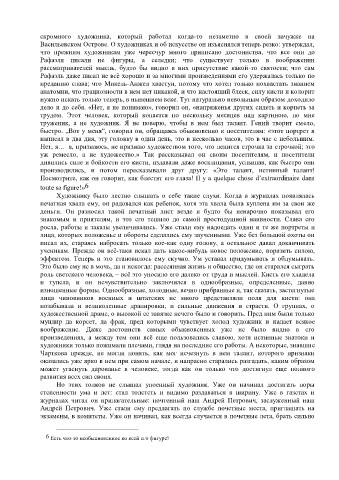Page 45 - Петербурские повести
P. 45
скромного художника, который работал когда-то незаметно в своей лачужке на
Васильевском Острове. О художниках и об искусстве он изъяснялся теперь резко: утверждал,
что прежним художникам уже чересчур много приписано достоинства, что все они до
Рафаэля писали не фигуры, а селедки; что существует только в воображении
рассматривателей мысль, будто бы видно в них присутствие какой-то святости; что сам
Рафаэль даже писал не всё хорошо и за многими произведениями его удержалась только по
преданию слава; что Микель-Анжел хвастун, потому что хотел только похвастать знанием
анатомии, что грациозности в нем нет никакой, и что настоящий блеск, силу кисти и колорит
нужно искать только теперь, в нынешнем веке. Тут натурально невольным образом доходило
дело и до себя. «Нет, я не понимаю», говорил он, «напряженья других сидеть и корпеть за
трудом. Этот человек, который копается по нескольку месяцев над картиною, по мне
труженик, а не художник. Я не поверю, чтобы в нем был талант. Гений творит смело,
быстро. „Вот у меня“, говорил он, обращаясь обыкновенно к посетителям: «этот портрет я
написал в два дня, эту головку в один день, это в несколько часов, это в час с небольшим.
Нет, я… я, признаюсь, не признаю художеством того, что лепится строчка за строчкой; это
уж ремесло, а не художество.» Так рассказывал он своим посетителям, и посетители
дивились силе и бойкости его кисти, издавали даже восклицания, услышав, как быстро они
производились, и потом пересказывали друг другу: «Это талант, истинный талант!
Посмотрите, как он говорит, как блестят его глаза! Il y a quelque chose d’extraordinaire dans
6
toute sa figure!»
Художнику было лестно слышать о себе такие слухи. Когда в журналах появлялась
печатная хвала ему, он радовался как ребенок, хотя эта хвала была куплена им за свои же
деньги. Он разносил такой печатный лист везде и будто бы ненарочно показывал его
знакомым и приятелям, и это его тешило до самой простодушной наивности. Слава его
росла, работы и заказы увеличивались. Уже стали ему надоедать одни и те же портреты и
лица, которых положенье и обороты сделались ему заученными. Уже без большой охоты он
писал их, стараясь набросать только кое-как одну голову, а остальное давал доканчивать
ученикам. Прежде он всё-таки искал дать какое-нибудь новое положение, поразить силою,
эффектом. Теперь и это становилось ему скучно. Ум уставал придумывать и обдумывать.
Это было ему не в мочь, да и некогда: рассеянная жизнь и общество, где он старался сыграть
роль светского человека, – всё это уносило его далеко от труда и мыслей. Кисть его хладела
и тупела, и он нечувствительно заключился в однообразные, определенные, давно
изношенные формы. Однообразные, холодные, вечно прибранные и, так сказать, застегнутые
лица чиновников военных и штатских не много представляли поля для кисти: она
позабывала и великолепные драпировки, и сильные движения и страсти. О группах, о
художественной драме, о высокой ее завязке нечего было и говорить. Пред ним были только
мундир да корсет, да фрак, пред которыми чувствует холод художник и падает всякое
воображение. Даже достоинств самых обыкновенных уже не было видно в его
произведениях, а между тем они всё еще пользовались славою, хотя истинные знатоки и
художники только пожимали плечами, глядя на последние его работы. А некоторые, знавшие
Чарткова прежде, не могли понять, как мог исчезнуть в нем талант, которого признаки
оказались уже ярко в нем при самом начале, и напрасно старались разгадать, каким образом
может угаснуть дарованье в человеке, тогда как он только что достигнул еще полного
развития всех сил своих.
Но этих толков не слышал упоенный художник. Уже он начинал достигать поры
степенности ума и лет: стал толстеть и видимо раздаваться в ширину. Уже в газетах и
журналах читал он прилагательные: почтенный наш Андрей Петрович, заслуженный наш
Андрей Петрович. Уже стали ему предлагать по службе почетные места, приглашать на
экзамены, в комитеты. Уже он начинал, как всегда случается в почетные лета, брать сильно
6 Есть что-то необыкновенное во всей его фигуре!