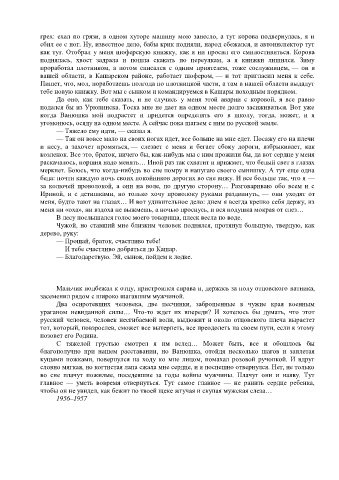Page 17 - Судьба человека
P. 17
грех: ехал по грязи, в одном хуторе машину мою занесло, а тут корова подвернулась, я и
сбил ее с ног. Ну, известное дело, бабы крик подняли, народ сбежался, и автоинспектор тут
как тут. Отобрал у меня шоферскую книжку, как я ни просил его смилостивиться. Корова
поднялась, хвост задрала и пошла скакать по переулкам, а я книжки лишился. Зиму
проработал плотником, а потом списался с одним приятелем, тоже сослуживцем, — он в
вашей области, в Кашарском районе, работает шофером, — и тот пригласил меня к себе.
Пишет, что, мол, поработаешь полгода по плотницкой части, а там в нашей области выдадут
тебе новую книжку. Вот мы с сынком и командируемся в Кашары походным порядком.
Да оно, как тебе сказать, и не случись у меня этой аварии с коровой, я все равно
подался бы из Урюпинска. Тоска мне не дает на одном месте долго засиживаться. Вот уже
когда Ванюшка мой подрастет и придется определять его в школу, тогда, может, и я
угомонюсь, осяду на одном месте. А сейчас пока шагаем с ним по русской земле.
— Тяжело ему идти, — сказал я.
— Так он вовсе мало на своих ногах идет, все больше на мне едет. Посажу его на плечи
и несу, а захочет промяться, — слезает с меня и бегает сбоку дороги, взбрыкивает, как
козленок. Все это, браток, ничего бы, как-нибудь мы с ним прожили бы, да вот сердце у меня
раскачалось, поршня надо менять… Иной раз так схватит и прижмет, что белый свет в глазах
меркнет. Боюсь, что когда-нибудь во сне помру и напугаю своего сынишку. А тут еще одна
беда: почти каждую ночь своих покойников дорогих во сне вижу. И все больше так, что я —
за колючей проволокой, а они на воле, по другую сторону… Разговариваю обо всем и с
Ириной, и с детишками, но только хочу проволоку руками раздвинуть, — они уходят от
меня, будто тают на глазах… И вот удивительное дело: днем я всегда крепко себя держу, из
меня ни «оха», ни вздоха не выжмешь, а ночью проснусь, и вся подушка мокрая от слез…
В лесу послышался голос моего товарища, плеск весла по воде.
Чужой, но ставший мне близким человек поднялся, протянул большую, твердую, как
дерево, руку:
— Прощай, браток, счастливо тебе!
— И тебе счастливо добраться до Кашар.
— Благодарствую. Эй, сынок, пойдем к лодке.
Мальчик подбежал к отцу, пристроился справа и, держась за полу отцовского ватника,
засеменил рядом с широко шагавшим мужчиной.
Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным
ураганом невиданной силы… Что-то ждет их впереди? И хотелось бы думать, что этот
русский человек, человек несгибаемой воли, выдюжит и около отцовского плеча вырастет
тот, который, повзрослев, сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому
позовет его Родина.
С тяжелой грустью смотрел я им вслед… Может быть, все и обошлось бы
благополучно при нашем расставании, но Ванюшка, отойдя несколько шагов и заплетая
куцыми ножками, повернулся на ходу ко мне лицом, помахал розовой ручонкой. И вдруг
словно мягкая, но когтистая лапа сжала мне сердце, и я поспешно отвернулся. Нет, не только
во сне плачут пожилые, поседевшие за годы войны мужчины. Плачут они и наяву. Тут
главное — уметь вовремя отвернуться. Тут самое главное — не ранить сердце ребенка,
чтобы он не увидел, как бежит по твоей щеке жгучая и скупая мужская слеза…
1956–1957