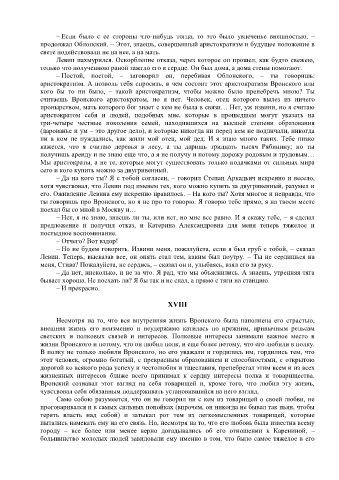Page 101 - Анна Каренина
P. 101
– Если было с ее стороны что-нибудь тогда, то это было увлеченье внешностью, –
продолжал Облонский. – Этот, знаешь, совершенный аристократизм и будущее положение в
свете подействовали не на нее, а на мать.
Левин нахмурился. Оскорбление отказа, через которое он прошел, как будто свежею,
только что полученною раной зажгло его в сердце. Он был дома, а дома стены помогают.
– Постой, постой, – заговорил он, перебивая Облонского, – ты говоришь:
аристократизм. А позволь тебя спросить, в чем состоит этот аристократизм Вронского или
кого бы то ни было, – такой аристократизм, чтобы можно было пренебречь мною? Ты
считаешь Вронского аристократом, но я нет. Человек, отец которого вылез из ничего
пронырством, мать которого бог знает с кем не была в связи… Нет, уж извини, но я считаю
аристократом себя и людей, подобных мне, которые в прошедшем могут указать на
три-четыре честные поколения семей, находившихся на высшей степени образования
(дарованье и ум – это другое дело), и которые никогда ни перед кем не подличали, никогда
ни в ком не нуждались, как жили мой отец, мой дед. И я знаю много таких. Тебе низко
кажется, что я считаю деревья в лесу, а ты даришь тридцать тысяч Рябинину; но ты
получишь аренду и не знаю еще что, а я не получу и потому дорожу родовым и трудовым…
Мы аристократы, а не те, которые могут существовать только подачками от сильных мира
сего и кого купить можно за двугривенный.
– Да на кого ты? Я с тобой согласен, – говорил Степан Аркадьич искренно и весело,
хотя чувствовал, что Левин под именем тех, кого можно купить за двугривенный, разумел и
его. Оживление Левина ему искренно нравилось. – На кого ты? Хотя многое и неправда, что
ты говоришь про Вронского, но я не про то говорю. Я говорю тебе прямо, я на твоем месте
поехал бы со мной в Москву и…
– Нет, я не знаю, знаешь ли ты, или нет, но мне все равно. И я скажу тебе, – я сделал
предложение и получил отказ, и Катерина Александровна для меня теперь тяжелое и
постыдное воспоминание.
– Отчего? Вот вздор!
– Но не будем говорить. Извини меня, пожалуйста, если я был груб с тобой, – сказал
Левин. Теперь, высказав все, он опять стал тем, каким был поутру. – Ты не сердишься на
меня, Стива? Пожалуйста, не сердись, – сказал он и, улыбаясь, взял его за руку.
– Да нет, нисколько, и не за что. Я рад, что мы объяснились. А знаешь, утренняя тяга
бывает хороша. Не поехать ли? Я бы так и не спал, а прямо с тяги на станцию.
– И прекрасно.
XVIII
Несмотря на то, что вся внутренняя жизнь Вронского была наполнена его страстью,
внешняя жизнь его неизменно и неудержимо катилась по прежним, привычным рельсам
светских и полковых связей и интересов. Полковые интересы занимали важное место в
жизни Вронского и потому, что он любил полк, и еще более потому, что его любили в полку.
В полку не только любили Вронского, но его уважали и гордились им, гордились тем, что
этот человек, огромно богатый, с прекрасным образованием и способностями, с открытою
дорогой ко всякого рода успеху и честолюбия и тщеславия, пренебрегал этим всем и из всех
жизненных интересов ближе всего принимал к сердцу интересы полка и товарищества.
Вронский сознавал этот взгляд на себя товарищей и, кроме того, что любил эту жизнь,
чувствовал себя обязанным поддерживать установившийся на него взгляд.
Само собою разумеется, что он не говорил ни с кем из товарищей о своей любви, не
проговаривался и в самых сильных попойках (впрочем, он никогда не бывал так пьян, чтобы
терять власть над собой) и затыкал рот тем из легкомысленных товарищей, которые
пытались намекать ему на его связь. Но, несмотря на то, что его любовь была известна всему
городу – все более или менее верно догадывались об его отношении к Карениной, –
большинство молодых людей завидовали ему именно в том, что было самое тяжелое в его