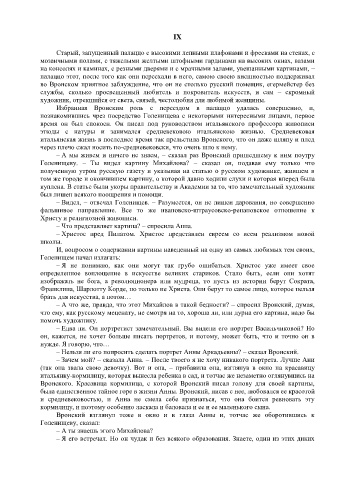Page 271 - Анна Каренина
P. 271
IX
Старый, запущенный палаццо с высокими лепными плафонами и фресками на стенах, с
мозаичными полами, с тяжелыми желтыми штофными гардинами на высоких окнах, вазами
на консолях и каминах, с резными дверями и с мрачными залами, увешанными картинами, –
палаццо этот, после того как они переехали в него, самою своею внешностью поддерживал
во Вронском приятное заблуждение, что он не столько русский помещик, егермейстер без
службы, сколько просвещенный любитель и покровитель искусств, и сам – скромный
художник, отрекшийся от света, связей, честолюбия для любимой женщины.
Избранная Вронским роль с переездом в палаццо удалась совершенно, и,
познакомившись чрез посредство Голенищева с некоторыми интересными лицами, первое
время он был спокоен. Он писал под руководством итальянского профессора живописи
этюды с натуры и занимался средневековою итальянскою жизнью. Средневековая
итальянская жизнь в последнее время так прельстила Вронского, что он даже шляпу и плед
через плечо сжал носить по-средневековски, что очень шло к нему.
– А мы живем и ничего не знаем, – сказал раз Вронский пришедшему к ним поутру
Голенищеву. – Ты видел картину Михайлова? – сказал он, подавая ему только что
полученную утром русскую газету и указывая на статью о русском художнике, жившем в
том же городе и окончившем картину, о которой давно ходили слухи и которая вперед была
куплена. В статье были укоры правительству и Академии за то, что замечательный художник
был лишен всякого поощрения и помощи.
– Видел, – отвечал Голенищев. – Разумеется, он не лишен дарования, но совершенно
фальшивое направление. Все то же ивановско-штраусовско-ренановское отношение к
Христу и религиозной живописи.
– Что представляет картина? – спросила Анна.
– Христос пред Пилатом. Христос представлен евреем со всем реализмом новой
школы.
И, вопросом о содержании картины наведенный на одну из самых любимых тем своих,
Голенищем начал излагать:
– Я не понимаю, как они могут так грубо ошибаться. Христос уже имеет свое
определенное воплощение в искусстве великих стариков. Стало быть, если они хотят
изображать не бога, а революционера или мудреца, то пусть из истории берут Сократа,
Франклина, Шарлотту Корде, но только не Христа. Они берут то самое лицо, которое нельзя
брать для искусства, а потом…
– А что же, правда, что этот Михайлов в такой бедности? – спросил Вронский, думая,
что ему, как русскому меценату, не смотря на то, хороша ли, или дурна его картина, надо бы
помочь художнику.
– Едва ли. Он портретист замечательный. Вы видели его портрет Васильчиковой? Но
он, кажется, не хочет больше писать портретов, и потому, может быть, что и точно он в
нужде. Я говорю, что…
– Нельзя ли его попросить сделать портрет Анны Аркадьевны? – сказал Вронский.
– Зачем мой? – сказала Анна. – После твоего я не хочу никакого портрета. Лучше Ани
(так она звала свою девочку). Вот и она, – прибавила она, взглянув в окно на красавицу
итальянку-кормилицу, которая вынесла ребенка в сад, и тотчас же незаметно оглянувшись на
Вронского. Красавица кормилица, с которой Вронский писал голову для своей картины,
была единственное тайное горе в жизни Анны. Вронский, писав с нее, любовался ее красотой
и средневековостью, и Анна не смела себе признаться, что она боится ревновать эту
кормилицу, и поэтому особенно ласкала и баловала и ее и ее маленького сына.
Вронский взглянул тоже в окно и в глаза Анны и, тотчас же оборотившись к
Голенищеву, сказал:
– А ты знаешь эгого Михайлова?
– Я его встречал. Но он чудак и без всякого образования. Знаете, один из этих диких