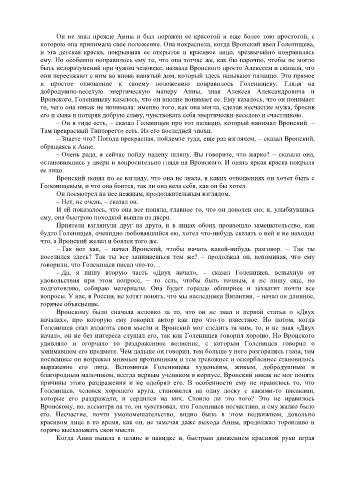Page 268 - Анна Каренина
P. 268
Он не знал прежде Анны и был поражен ее красотой и еще более тою простотой, с
которою она принимала свое положение. Она покраснела, когда Вронский ввел Голенищева,
и эта детская краска, покрывшая ее открытое и красивое лицо, чрезвычайно понравилась
ему. Но особенно понравилось ему то, что она тотчас же, как бы нарочно, чтобы не могло
быть недоразумений при чужом человеке, назвала Вронского просто Алексеем и сказала, что
они переезжают с ним во вновь нанятый дом, который здесь называют палаццо. Это прямое
и простое отношение к своему положению понравилось Голенищеву. Глядя на
добродушно-веселую энергическую манеру Анны, зная Алексея Александровича и
Вронского, Голенищеву казалось, что он вполне понимает ее. Ему казалось, что он понимает
то, чего она никак не понимала: именно того, как она могла, сделав несчастие мужа, бросив
его и сына и потеряв добрую славу, чувствовать себя энергически-веселою и счастливою.
– Он в гиде есть, – сказал Голенищев про тот палаццо, который нанимал Вронский. –
Там прекрасный Тинторетто есть. Из его последней эпохи.
– Знаете что? Погода прекрасная, пойдемте туда, еще раз взглянем, – сказал Вронский,
обращаясь к Анне.
– Очень рада, я сейчас пойду надену шляпу. Вы говорите, что жарко? – сказала она,
остановившись у двери и вопросительно глядя на Вронского. И опять яркая краска покрыла
ее лицо.
Вронский понял по ее взгляду, что она не знала, в каких отношениях он хочет быть с
Голенищевым, и что она боится, так ли она вела себя, как он бы хотел.
Он посмотрел на нее нежным, продолжительным взглядом.
– Нет, не очень, – сказал он.
И ей показалось, что она все поняла, главное то, что он доволен ею; и, улыбнувшись
ему, она быстрою походкой вышла из двери.
Приятели взглянули друг на друга, и в лицах обоих произошло замешательство, как
будто Голенищев, очевидно любовавшийся ею, хотел что-нибудь сказать о ней и не находил
что, а Вронский желал и боялся того же.
– Так вот как, – начал Вронский, чтобы начать какой-нибудь разговор. – Так ты
поселился здесь? Так ты все занимаешься тем же? – продолжал он, вспоминая, что ему
говорили, что Голенищев писал что-то…
– Да, я пишу вторую часть «Двух начал», – сказал Голенищев, вспыхнув от
удовольствия при этом вопросе, – то есть, чтобы быть точным, я не пишу еще, но
подготовляю, собираю материалы. Она будет гораздо обширнее и захватит почти все
вопросы. У нас, в России, не хотят понять, что мы наследники Византии, – начал он длинное,
горячее объяснение.
Вронскому было сначала неловко за то, что он не знал и первой статьи о «Двух
началах», про которую ему говорил автор как про что-то известное. Но потом, когда
Голенищев стал излагать свои мысли и Вронский мог следить за ним, то, и не зная «Двух
начал», он не без интереса слушал его, так как Голенищев говорил хорошо. Но Вронского
удивляло и огорчало то раздраженное волнение, с которым Голенищев говорил о
занимавшем его предмете. Чем дальше он говорил, тем больше у него разгорались глаза, тем
поспешнее он возражал мнимым противникам и тем тревожнее и оскорбленнее становилось
выражение его лица. Вспоминая Голенищева худеньким, живым, добродушным и
благородным мальчиком, всегда первым учеником в корпусе, Вронский никак не мог понять
причины этого раздражения и не одобрял его. В особенности ему не нравилось то, что
Голенищев, человек хорошего круга, становился на одну доску с какими-то писаками,
которые его раздражали, и сердился на них. Стоило ли это того? Это не нравилось
Вронскому, но, несмотря на то, он чувствовал, что Голенищев несчастлив, и ему жалко было
его. Несчастие, почти умопомешательство, видно было в этом подвижном, довольно
красивом лице в то время, как он, не замечая даже выхода Анны, продолжал торопливо и
горячо высказывать свои мысли.
Когда Анна вышла в шляпе и накидке и, быстрым движением красивой руки играя