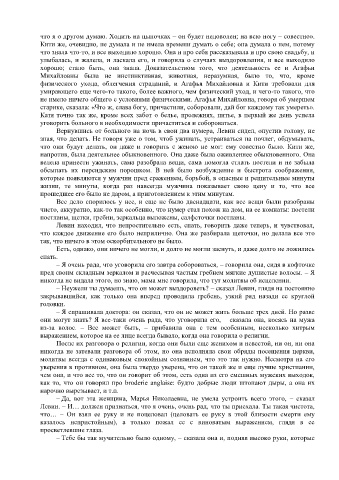Page 289 - Анна Каренина
P. 289
что я о другом думаю. Ходить на цыпочках – он будет недоволен; на всю ногу – совестно».
Кити же, очевидно, не думала и не имела времени думать о себе; она думала о нем, потому
что знала что-то, и все выходило хорошо. Она и про себя рассказывала и про свою свадьбу, и
улыбалась, и жалела, и ласкала его, и говорила о случаях выздоровления, и все выходило
хорошо; стало быть, она знала. Доказательством того, что деятельность ее и Агафьи
Михайловны была не инстинктивная, животная, неразумная, было то, что, кроме
физического ухода, облегчения страданий, и Агафья Михайловна и Кити требовали для
умирающего еще чего-то такого, более важного, чем физический уход, и чего-то такого, что
не имело ничего общего с условиями физическими. Агафья Михайловна, говоря об умершем
старике, сказала: «Что ж, слава богу, причастили, соборовали, дай бог каждому так умереть».
Катя точно так же, кроме всех забот о белье, пролежнях, питье, в первый же день успела
уговорить больного в необходимости причаститься и собороваться.
Вернувшись от больного на ночь в свои два нумера, Левин сидел, опустив голову, не
зная, что делать. Не говоря уже о том, чтоб ужинать, устраиваться на ночлег, обдумывать,
что они будут делать, он даже и говорить с женою не мог: ему совестно было. Кити же,
напротив, была деятельнее обыкновенного. Она даже была оживленнее обыкновенного. Она
велела принести ужинать, сама разобрала вещи, сама помогла стлать постели и не забыла
обсыпать их персидским порошком. В ней было возбуждение и быстрота соображения,
которые появляются у мужчин пред сражением, борьбой, в опасные и решительные минуты
жизни, те минуты, когда раз навсегда мужчина показывает свою цену и то, что все
прошедшее его было не даром, а приготовлением к этим минутам.
Все дело спорилось у нее, и еще не было двенадцати, как все вещи были разобраны
чисто, аккуратно, как-то так особенно, что нумер стал похож на дом, на ее комнаты: постели
постланы, щетки, гребни, зеркальца выложены, салфеточки постланы.
Левин находил, что непростительно есть, спать, говорить даже теперь, и чувствовал,
что каждое движение его было неприлично. Она же разбирала щеточки, но делала все это
так, что ничего в этом оскорбительного не было.
Есть, однако, они ничего не могли, и долго не могли заснуть, и даже долго не ложились
спать.
– Я очень рада, что уговорила его завтра собороваться, – говорила она, сидя в кофточке
пред своим складным зеркалом и расчесывая частым гребнем мягкие душистые волосы. – Я
никогда не видала этого, но знаю, мама мне говорила, что тут молитвы об исцелении.
– Неужели ты думаешь, что он может выздороветь? – сказал Левин, глядя на постоянно
закрывавшийся, как только она вперед проводила гребень, узкий ряд назади ее круглой
головки.
– Я спрашивала доктора: он сказал, что он не может жить больше трех дней. Но разве
они могут знать? Я все-таки очень рада, что уговорила его, – сказала она, косясь на мужа
из-за волос. – Все может быть, – прибавила она с тем особенным, несколько хитрым
выражением, которое на ее лице всегда бывало, когда она говорила о религии.
После их разговора о религии, когда они были еще женихом и невестой, ни он, ни она
никогда не затевали разговора об этом, но она исполняла свои обряды посещения церкви,
молитвы всегда с одинаковым спокойным сознанием, что это так нужно. Несмотря на его
уверения в противном, она была твердо уверена, что он такой же и еще лучше христианин,
чем она, и что все то, что он говорит об этом, есть одна из его смешных мужских выходок,
как то, что он говорил про broderie anglaise: будто добрые люди штопают дыры, а она их
нарочно вырезывает, и т.п.
– Да, вот эта женщина, Марья Николаевна, не умела устроить всего этого, – сказал
Левин. – И… должен признаться, что я очень, очень рад, что ты приехала. Ты такая чистота,
что… – Он взял ее руку и не поцеловал (целовать ее руку в этой близости смерти ему
казалось непристойным), а только пожал ее с виноватым выражением, глядя в ее
просветлевшие глаза.
– Тебе бы так мучительно было одному, – сказала она и, подняв высоко руки, которые