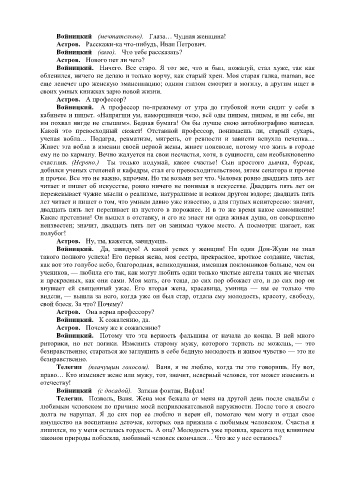Page 4 - Дядя Ваня
P. 4
Войницкий (мечтательно). Глаза… Чудная женщина!
Астров. Расскажи-ка что-нибудь, Иван Петрович.
Войницкий (вяло). Что тебе рассказать?
Астров. Нового нет ли чего?
Войницкий. Ничего. Все старо. Я тот же, что и был, пожалуй, стал хуже, так как
обленился, ничего не делаю и только ворчу, как старый хрен. Моя старая галка, maman, все
еще лепечет про женскую эмансипацию; одним глазом смотрит в могилу, а другим ищет в
своих умных книжках зарю новой жизни.
Астров. А профессор?
Войницкий. А профессор по-прежнему от утра до глубокой ночи сидит у себя в
кабинете и пишет. «Напрягши ум, наморщивши чело, всё оды пишем, пишем, и ни себе, ни
им похвал нигде не слышим». Бедная бумага! Он бы лучше свою автобиографию написал.
Какой это превосходный сюжет! Отставной профессор, понимаешь ли, старый сухарь,
ученая вобла… Подагра, ревматизм, мигрень, от ревности и зависти вспухла печенка…
Живет эта вобла в имении своей первой жены, живет поневоле, потому что жить в городе
ему не по карману. Вечно жалуется на свои несчастья, хотя, в сущности, сам необыкновенно
счастлив. (Нервно.) Ты только подумай, какое счастье! Сын простого дьячка, бурсак,
добился ученых степеней и кафедры, стал его превосходительством, зятем сенатора и прочее
и прочее. Все это не важно, впрочем. Но ты возьми вот что. Человек ровно двадцать пять лет
читает и пишет об искусстве, ровно ничего не понимая в искусстве. Двадцать пять лет он
пережевывает чужие мысли о реализме, натурализме и всяком другом вздоре; двадцать пять
лет читает и пишет о том, что умным давно уже известно, а для глупых неинтересно: значит,
двадцать пять лет переливает из пустого в порожнее. И в то же время какое самомнение!
Какие претензии! Он вышел в отставку, и его не знает ни одна живая душа, он совершенно
неизвестен; значит, двадцать пять лет он занимал чужое место. А посмотри: шагает, как
полубог!
Астров. Ну, ты, кажется, завидуешь.
Войницкий. Да, завидую! А какой успех у женщин! Ни один Дон-Жуан не знал
такого полного успеха! Его первая жена, моя сестра, прекрасное, кроткое создание, чистая,
как вот это голубое небо, благородная, великодушная, имевшая поклонников больше, чем он
учеников, — любила его так, как могут любить одни только чистые ангелы таких же чистых
и прекрасных, как они сами. Моя мать, его теща, до сих пор обожает его, и до сих пор он
внушает ей священный ужас. Его вторая жена, красавица, умница — вы ее только что
видели, — вышла за него, когда уже он был стар, отдала ему молодость, красоту, свободу,
свой блеск. За что? Почему?
Астров. Она верна профессору?
Войницкий. К сожалению, да.
Астров. Почему же к сожалению?
Войницкий. Потому что эта верность фальшива от начала до конца. В ней много
риторики, но нет логики. Изменить старому мужу, которого терпеть не можешь, — это
безнравственно; стараться же заглушить в себе бедную молодость и живое чувство — это не
безнравственно.
Телегин (плачущим голосом). Ваня, я не люблю, когда ты это говоришь. Ну вот,
право… Кто изменяет жене или мужу, тот, значит, неверный человек, тот может изменить и
отечеству!
Войницкий (с досадой). Заткни фонтан, Вафля!
Телегин. Позволь, Ваня. Жена моя бежала от меня на другой день после свадьбы с
любимым человеком по причине моей непривлекательной наружности. После того я своего
долга не нарушал. Я до сих пор ее люблю и верен ей, помогаю чем могу и отдал свое
имущество на воспитание деточек, которых она прижила с любимым человеком. Счастья я
лишился, но у меня осталась гордость. А она? Молодость уже прошла, красота под влиянием
законов природы поблекла, любимый человек скончался… Что же у нее осталось?