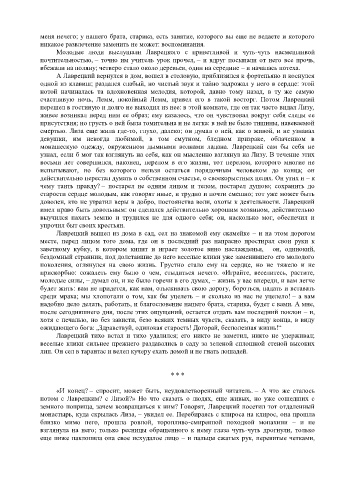Page 84 - Дворянское гнездо
P. 84
меня нечего; у нашего брата, старика, есть занятие, которого вы еще не ведаете и которого
никакое развлечение заменить не может: воспоминания.
Молодые люди выслушали Лаврецкого с приветливой и чуть-чуть насмешливой
почтительностью, – точно им учитель урок прочел, – и вдруг посыпали от него все прочь,
вбежали на поляну; четверо стало около деревьев, один на середине – и началась потеха.
А Лаврецкий вернулся в дом, вошел в столовую, приблизился к фортепьяно и коснулся
одной из клавиш; раздался слабый, но чистый звук и тайно задрожал у него в сердце: этой
нотой начиналась та вдохновенная мелодия, которой, давно тому назад, в ту же самую
счастливую ночь, Лемм, покойный Лемм, привел его в такой восторг. Потом Лаврецкий
перешел в гостиную и долго не выходил из нее: в этой комнате, где он так часто видал Лизу,
живее возникал перед ним ее образ; ему казалось, что он чувствовал вокруг себя следы ее
присутствия; но грусть о ней была томительна и не легка: в ней не было тишины, навеваемой
смертью. Лиза еще жила где-то, глухо, далеко; он думал о ней, как о живой, и не узнавал
девушки, им некогда любимой, в том смутном, бледном призраке, облаченном в
монашескую одежду, окруженном дымными волнами ладана. Лаврецкий сам бы себя не
узнал, если б мог так взглянуть на себя, как он мысленно взглянул на Лизу. В течение этих
восьми лет совершился, наконец, перелом в его жизни, тот перелом, которого многие не
испытывают, но без которого нельзя остаться порядочным человеком до конца; он
действительно перестал думать о собственном счастье, о своекорыстных целях. Он утих и – к
чему таить правду? – постарел не одним лицом и телом, постарел душою; сохранить до
старости сердце молодым, как говорят иные, и трудно и почти смешно; тот уже может быть
доволен, кто не утратил веры в добро, постоянства воли, охоты к деятельности. Лаврецкий
имел право быть довольным: он сделался действительно хорошим хозяином, действительно
выучился пахать землю и трудился не для одного себя; он, насколько мог, обеспечил и
упрочил быт своих крестьян.
Лаврецкий вышел из дома в сад, сел на знакомой ему скамейке – и на этом дорогом
месте, перед лицом того дома, где он в последний раз напрасно простирал свои руки к
заветному кубку, в котором кипит и играет золотое вино наслажденья, – он, одинокий,
бездомный странник, под долетавшие до него веселые клики уже заменившего его молодого
поколения, оглянулся на свою жизнь. Грустно стало ему на сердце, но не тяжело и не
прискорбно: сожалеть ему было о чем, стыдиться нечего. «Играйте, веселитесь, растите,
молодые силы, – думал он, и не было горечи в его думах, – жизнь у вас впереди, и вам легче
будет жить: вам не придется, как нам, отыскивать свою дорогу, бороться, падать и вставать
среди мрака; мы хлопотали о том, как бы уцелеть – и сколько из нас не уцелело! – а вам
надобно дело делать, работать, и благословение нашего брата, старика, будет с вами. А мне,
после сегодняшнего дня, после этих ощущений, остается отдать вам последний поклон – и,
хотя с печалью, но без зависти, безо всяких темных чувств, сказать, в виду конца, в виду
ожидающего бога: „Здравствуй, одинокая старость! Догорай, бесполезная жизнь!“
Лаврецкий тихо встал и тихо удалился; его никто не заметил, никто не удерживал;
веселые клики сильнее прежнего раздавались в саду за зеленой сплошной стеной высоких
лип. Он сел в тарантас и велел кучеру ехать домой и не гнать лошадей.
* * *
«И конец? – спросит, может быть, неудовлетворенный читатель. – А что же сталось
потом с Лаврецким? с Лизой?» Но что сказать о людях, еще живых, но уже сошедших с
земного поприща, зачем возвращаться к ним? Говорят, Лаврецкий посетил тот отдаленный
монастырь, куда скрылась Лиза, – увидел ее. Перебираясь с клироса на клирос, она прошла
близко мимо него, прошла ровной, торопливо-смиренной походкой монахини – и не
взглянула на него; только ресницы обращенного к нему глаза чуть-чуть дрогнули, только
еще ниже наклонила она свое исхудалое лицо – и пальцы сжатых рук, перевитые четками,