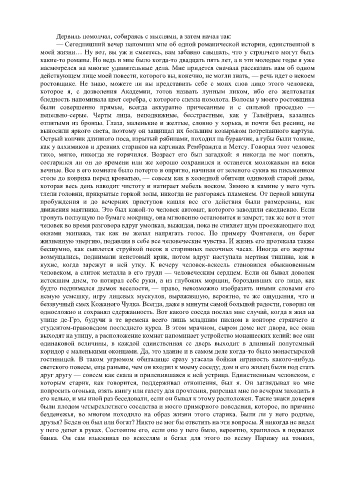Page 4 - Гобсек
P. 4
Дервиль помолчал, собираясь с мыслями, а затем начал так:
— Сегодняшний вечер напомнил мне об одной романической истории, единственной в
моей жизни… Ну вот, вы уж и смеетесь, вам забавно слышать, что у стряпчего могут быть
какие-то романы. Но ведь и мне было когда-то двадцать пять лет, а в эти молодые годы я уже
насмотрелся на многие удивительные дела. Мне придется сначала рассказать вам об одном
действующем лице моей повести, которого вы, конечно, не могли знать, — речь идет о некоем
ростовщике. Не знаю, можете ли вы представить себе с моих слов лицо этого человека,
которое я, с дозволения Академии, готов назвать лунным ликом, ибо его желтоватая
бледность напоминала цвет серебра, с которого слезла позолота. Волосы у моего ростовщика
были совершенно прямые, всегда аккуратно причесанные и с сильной проседью —
пепельно-серые. Черты лица, неподвижные, бесстрастные, как у Талейрана, казались
отлитыми из бронзы. Глаза, маленькие и желтые, словно у хорька, и почти без ресниц, не
выносили яркого света, поэтому он защищал их большим козырьком потрепанного картуза.
Острый кончик длинного носа, изрытый рябинами, походил на буравчик, а губы были тонкие,
как у алхимиков и древних стариков на картинах Рембрандта и Метсу. Говорил этот человек
тихо, мягко, никогда не горячился. Возраст его был загадкой: я никогда не мог понять,
состарился ли он до времени или же хорошо сохранился и останется моложавым на веки
вечные. Все в его комнате было потерто и опрятно, начиная от зеленого сукна на письменном
столе до коврика перед кроватью, — совсем как в холодной обители одинокой старой девы,
которая весь день наводит чистоту и натирает мебель воском. Зимою в камине у него чуть
тлели головни, прикрытые горкой золы, никогда не разгораясь пламенем. От первой минуты
пробуждения и до вечерних приступов кашля все его действия были размеренны, как
движения маятника. Это был какой-то человек автомат, которого заводили ежедневно. Если
тронуть ползущую по бумаге мокрицу, она мгновенно остановится и замрет; так же вот и этот
человек во время разговора вдруг умолкал, выжидая, пока не стихнет шум проезжающего под
окнами экипажа, так как не желал напрягать голос. По примеру Фонтенеля, он берег
жизненную энергию, подавляя в себе все человеческие чувства. И жизнь его протекала также
бесшумно, как сыплется струйкой песок в старинных песочных часах. Иногда его жертвы
возмущались, поднимали неистовый крик, потом вдруг наступала мертвая тишина, как в
кухне, когда зарежут в ней утку. К вечеру человек-вексель становился обыкновенным
человеком, а слиток металла в его груди — человеческим сердцем. Если он бывал доволен
истекшим днем, то потирал себе руки, а из глубоких морщин, бороздивших его лицо, как
будто поднимался дымок веселости, — право, невозможно изобразить иными словами его
немую усмешку, игру лицевых мускулов, выражавшую, вероятно, те же ощущения, что и
беззвучный смех Кожаного Чулка. Всегда, даже в минуты самой большой радости, говорил он
односложно и сохранял сдержанность. Вот какого соседа послал мне случай, когда я жил на
улице де-Грэ, будучи в те времена всего лишь младшим писцом в конторе стряпчего и
студентом-правоведом последнего курса. В этом мрачном, сыром доме нет двора, все окна
выходят на улицу, а расположение комнат напоминает устройство монашеских келий: все они
одинаковой величины, в каждой единственная ее дверь выходит в длинный полутемный
коридор с маленькими оконцами. Да, это здание и в самом деле когда-то было монастырской
гостиницей. В таком угрюмом обиталище сразу угасала бойкая игривость какого-нибудь
светского повесы, еще раньше, чем он входил к моему соседу; дом и его жилец были под стать
друг другу — совсем как скала и прилепившаяся к ней устрица. Единственным человеком, с
которым старик, как говорится, поддерживал отношения, был я. Он заглядывал ко мне
попросить огонька, взять книгу или газету для прочтения, разрешал мне по вечерам заходить в
его келью, и мы иной раз беседовали, если он бывал к этому расположен. Такие знаки доверия
были плодом четырехлетнего соседства и моего примерного поведения, которое, по причине
безденежья, во многом походило на образ жизни этого старика. Были ли у него родные,
друзья? Беден он был или богат? Никто не мог бы ответить на эти вопросы. Я никогда не видел
у него денег в руках. Состояние его, если оно у него было, вероятно, хранилось в подвалах
банка. Он сам взыскивал по векселям и бегал для этого по всему Парижу на тонких,