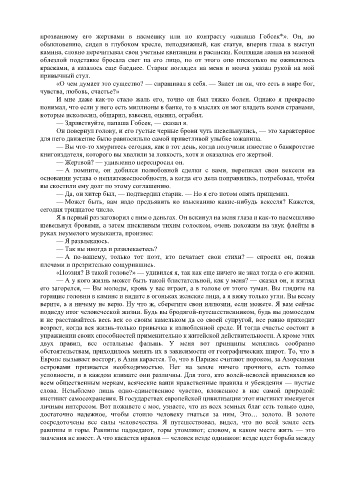Page 6 - Гобсек
P. 6
прозванному его жертвами в насмешку или по контрасту «папаша Гобсек*». Он, по
обыкновению, сидел в глубоком кресле, неподвижный, как статуя, вперив глаза в выступ
камина, словно перечитывал свои учетные квитанции и расписки. Коптящая лампа на зеленой
облезлой подставке бросала свет на его лицо, но от этого оно нисколько не оживлялось
красками, а казалось еще бледнее. Старик поглядел на меня и молча указал рукой на мой
привычный стул.
«О чем думает это существо? — спрашивал я себя. — Знает ли он, что есть в мире бог,
чувства, любовь, счастье?»
И мне даже как-то стало жаль его, точно он был тяжко болен. Однако я прекрасно
понимал, что если у него есть миллионы в банке, то в мыслях он мог владеть всеми странами,
которые исколесил, обшарил, взвесил, оценил, ограбил.
— Здравствуйте, папаша Гобсек, — сказал я.
Он повернул голову, и его густые черные брови чуть шевельнулись, — это характерное
для него движение было равносильно самой приветливой улыбке южанина.
— Вы что-то хмуритесь сегодня, как в тот день, когда получили известие о банкротстве
книгоиздателя, которого вы хвалили за ловкость, хотя и оказались его жертвой.
— Жертвой? — удивленно переспросил он.
— А помните, он добился полюбовной сделки с вами, переписал свои векселя на
основании устава о неплатежеспособности, а когда его дела поправились, потребовал, чтобы
вы скостили ему долг по этому соглашению.
— Да, он хитер был, — подтвердил старик. — Но я его потом опять прищемил.
— Может быть, вам надо предъявить ко взысканию какие-нибудь векселя? Кажется,
сегодня тридцатое число.
Я в первый раз заговорил с ним о деньгах. Он вскинул на меня глаза и как-то насмешливо
шевельнул бровями, а затем пискливым тихим голоском, очень похожим на звук флейты в
руках неумелого музыканта, произнес:
— Я развлекаюсь.
— Так вы иногда и развлекаетесь?
— А по-вашему, только тот поэт, кто печатает свои стихи? — спросил он, пожав
плечами и презрительно сощурившись.
«Поэзия? В такой голове?» — удивился я, так как еще ничего не знал тогда о его жизни.
— А у кого жизнь может быть такой блистательной, как у меня? — сказал он, и взгляд
его загорелся, — Вы молоды, кровь у вас играет, а в голове от этого туман. Вы глядите на
горящие головни в камине и видите в огоньках женские лица, а я вижу только угли. Вы всему
верите, а я ничему не верю. Ну что ж, сберегите свои иллюзии, если можете. Я вам сейчас
подведу итог человеческой жизни. Будь вы бродягой-путешественником, будь вы домоседом
и не расставайтесь весь век со своим камельком да со своей супругой, все равно приходит
возраст, когда вся жизнь-только привычка к излюбленной среде. И тогда счастье состоит в
упражнении своих способностей применительно к житейской действительности. А кроме этих
двух правил, все остальные фальшь. У меня вот принципы менялись сообразно
обстоятельствам, приходилось менять их в зависимости от географических широт. То, что в
Европе вызывает восторг, в Азии карается. То, что в Париже считают пороком, за Азорскими
островами признается необходимостью. Нет на земле ничего прочного, есть только
условности, и в каждом климате они различны. Для того, кто волей-неволей применялся ко
всем общественным меркам, всяческие ваши нравственные правила и убеждения — пустые
слова. Незыблемо лишь одно-единственное чувство, вложенное в нас самой природой:
инстинкт самосохранения. В государствах европейской цивилизации этот инстинкт именуется
личным интересом. Вот поживете с мое, узнаете, что из всех земных благ есть только одно,
достаточно надежное, чтобы стоило человеку гнаться за ним, Это… золото. В золоте
сосредоточены все силы человечества. Я путешествовал, видел, что по всей земле есть
равнины и горы. Равнины надоедают, горы утомляют; словом, в каком месте жить — это
значения не имеет. А что касается нравов — человек везде одинаков: везде идет борьба между