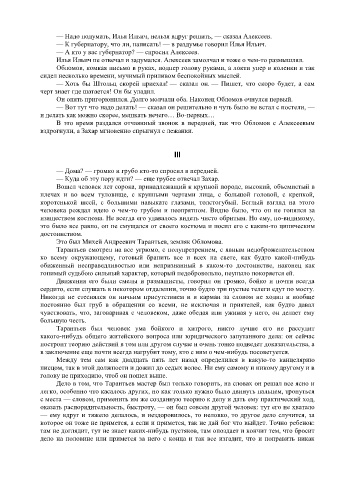Page 20 - Обломов
P. 20
— Надо подумать, Илья Ильич, нельзя вдруг решить, — сказал Алексеев.
— К губернатору, что ли, написать! — в раздумье говорил Илья Ильич.
— А кто у вас губернатор? — спросил Алексеев.
Илья Ильич не отвечал и задумался. Алексеев замолчал и тоже о чем-то размышлял.
Обломов, комкая письмо в руках, подпер голову руками, а локти упер в коленки и так
сидел несколько времени, мучимый приливом беспокойных мыслей.
— Хоть бы Штольц скорей приехал! — сказал он. — Пишет, что скоро будет, а сам
черт знает где шатается! Он бы уладил.
Он опять пригорюнился. Долго молчали оба. Наконец Обломов очнулся первый.
— Вот тут что надо делать! — сказал он решительно и чуть было не встал с постели, —
и делать как можно скорее, мешкать нечего… Во-первых…
В это время раздался отчаянный звонок в передней, так что Обломов с Алексеевым
вздрогнули, а Захар мгновенно спрыгнул с лежанки.
III
— Дома? — громко и грубо кто-то спросил в передней.
— Куда об эту пору идти? — еще грубее отвечал Захар.
Вошел человек лет сорока, принадлежащий к крупной породе, высокий, объемистый в
плечах и во всем туловище, с крупными чертами лица, с большой головой, с крепкой,
коротенькой шеей, с большими навыкате глазами, толстогубый. Беглый взгляд на этого
человека рождал идею о чем-то грубом и неопрятном. Видно было, что он не гонялся за
изяществом костюма. Не всегда его удавалось видеть чисто обритым. Но ему, по-видимому,
это было все равно, он не смущался от своего костюма и носил его с каким-то циническим
достоинством.
Это был Михей Андреевич Тарантьев, земляк Обломова.
Тарантьев смотрел на все угрюмо, с полупрезрением, с явным недоброжелательством
ко всему окружающему, готовый бранить все и всех на свете, как будто какой-нибудь
обиженный несправедливостью или непризнанный в каком-то достоинстве, наконец как
гонимый судьбою сильный характер, который недобровольно, неуныло покоряется ей.
Движения его были смелы и размашисты, говорил он громко, бойко и почти всегда
сердито, если слушать в некотором отдалении, точно будто три пустые телеги едут по мосту.
Никогда не стеснялся он ничьим присутствием и в карман за словом не ходил и вообще
постоянно был груб в обращении со всеми, не исключая и приятелей, как будто давал
чувствовать, что, заговаривая с человеком, даже обедая или ужиная у него, он делает ему
большую честь.
Тарантьев был человек ума бойкого и хитрого, никто лучше его не рассудит
какого-нибудь общего житейского вопроса или юридического запутанного дела: он сейчас
построит теорию действий в том или другом случае и очень тонко подведет доказательства, а
в заключение еще почти всегда нагрубит тому, кто с ним о чем-нибудь посоветуется.
Между тем сам как двадцать пять лет назад определился в какую-то канцелярию
писцом, так в этой должности и дожил до седых волос. Ни ему самому и никому другому и в
голову не приходило, чтоб он пошел выше.
Дело в том, что Тарантьев мастер был только говорить, на словах он решал все ясно и
легко, особенно что касалось других, но как только нужно было двинуть пальцем, тронуться
с места — словом, применить им же созданную теорию к делу и дать ему практический ход,
оказать распорядительность, быстроту, — он был совсем другой человек: тут его не хватало
— ему вдруг и тяжело делалось, и нездоровилось, то неловко, то другое дело случится, за
которое он тоже не примется, а если и примется, так не дай бог что выйдет. Точно ребенок:
там не доглядит, тут не знает каких-нибудь пустяков, там опоздает и кончит тем, что бросит
дело на половине или примется за него с конца и так все изгадит, что и поправить никак