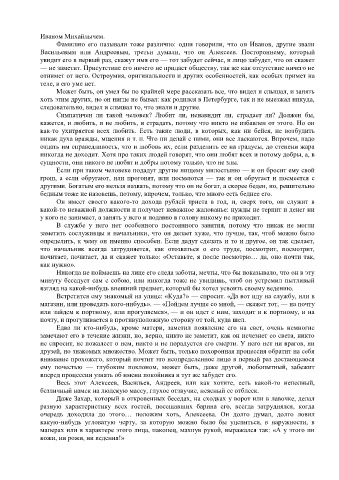Page 16 - Обломов
P. 16
Иваном Михайлычем.
Фамилию его называли тоже различно: одни говорили, что он Иванов, другие звали
Васильевым или Андреевым, третьи думали, что он Алексеев. Постороннему, который
увидит его в первый раз, скажут имя его — тот забудет сейчас, и лицо забудет, что он скажет
— не заметит. Присутствие его ничего не придаст обществу, так же как отсутствие ничего не
отнимет от него. Остроумия, оригинальности и других особенностей, как особых примет на
теле, в его уме нет.
Может быть, он умел бы по крайней мере рассказать все, что видел и слышал, и занять
хоть этим других, но он нигде не бывал: как родился в Петербурге, так и не выезжал никуда,
следовательно, видел и слышал то, что знали и другие.
Симпатичен ли такой человек? Любит ли, ненавидит ли, страдает ли? Должен бы,
кажется, и любить, и не любить, и страдать, потому что никто не избавлен от этого. Но он
как-то ухитряется всех любить. Есть такие люди, в которых, как ни бейся, не возбудить
никак духа вражды, мщения и т. п. Что ни делай с ними, они все ласкаются. Впрочем, надо
отдать им справедливость, что и любовь их, если разделить ее на градусы, до степени жара
никогда не доходит. Хотя про таких людей говорят, что они любят всех и потому добры, а, в
сущности, они никого не любят и добры потому только, что не злы.
Если при таком человеке подадут другие нищему милостыню — и он бросит ему свой
грош, а если обругают, или прогонят, или посмеются — так и он обругает и посмеется с
другими. Богатым его нельзя назвать, потому что он не богат, а скорее беден, но, решительно
бедным тоже не назовешь, потому, впрочем, только, что много есть беднее его.
Он имеет своего какого-то дохода рублей триста в год, и, сверх того, он служит в
какой-то неважной должности и получает неважное жалованье: нужды не терпит и денег ни
у кого не занимает, а занять у него и подавно в голову никому не приходит.
В службе у него нет особенного постоянного занятия, потому что никак не могли
заметить сослуживцы и начальники, что он делает хуже, что лучше, так, чтоб можно было
определить, к чему он именно способен. Если дадут сделать и то и другое, он так сделает,
что начальник всегда затрудняется, как отозваться о его труде, посмотрит, посмотрит,
почитает, почитает, да и скажет только: «Оставьте, я после посмотрю… да, оно почти так,
как нужно».
Никогда не поймаешь на лице его следа заботы, мечты, что бы показывало, что он в эту
минуту беседует сам с собою, или никогда тоже не увидишь, чтоб он устремил пытливый
взгляд на какой-нибудь внешний предмет, который бы хотел усвоить своему ведению.
Встретится ему знакомый на улице: «Куда?» — спросит. «Да вот иду на службу, или в
магазин, или проведать кого-нибудь». — «Пойдем лучше со мной, — скажет тот, — на почту
или зайдем к портному, или прогуляемся», — и он идет с ним, заходит и к портному, и на
почту, и прогуливается в противуположную сторону от той, куда шел.
Едва ли кто-нибудь, кроме матери, заметил появление его на свет, очень немногие
замечают его в течение жизни, но, верно, никто не заметит, как он исчезнет со света, никто
не спросит, не пожалеет о нем, никто и не порадуется его смерти. У него нет ни врагов, ни
друзей, но знакомых множество. Может быть, только похоронная процессия обратит на себя
внимание прохожего, который почтит это неопределенное лицо в первый раз достающеюся
ему почестью — глубоким поклоном, может быть, даже другой, любопытный, забежит
вперед процессии узнать об имени покойника и тут же забудет его.
Весь этот Алексеев, Васильев, Андреев, или как хотите, есть какой-то неполный,
безличный намек на людскую массу, глухое отзвучие, неясный ее отблеск.
Даже Захар, который в откровенных беседах, на сходках у ворот или в лавочке, делал
разную характеристику всех гостей, посещавших барина его, всегда затруднялся, когда
очередь доходила до этого… положим хоть, Алексеева. Он долго думал, долго ловил
какую-нибудь угловатую черту, за которую можно было бы уцепиться, в наружности, в
манерах или в характере этого лица, наконец, махнув рукой, выражался так: «А у этого ни
кожи, ни рожи, ни ведения!»