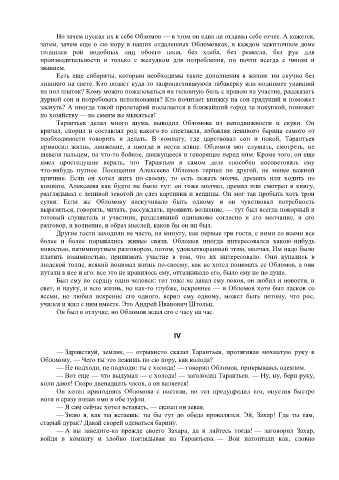Page 22 - Обломов
P. 22
Но зачем пускал их к себе Обломов — в этом он едва ли отдавал себе отчет. А кажется,
затем, зачем еще о сю пору в наших отдаленных Обломовках, в каждом зажиточном доме
толпился рой подобных лиц обоего пола, без хлеба, без ремесла, без рук для
производительности и только с желудком для потребления, но почти всегда с чином и
званием.
Есть еще сибариты, которым необходимы такие дополнения в жизни: им скучно без
лишнего на свете. Кто подаст куда-то запропастившуюся табакерку или поднимет упавший
на пол платок? Кому можно пожаловаться на головную боль с правом на участие, рассказать
дурной сон и потребовать истолкования? Кто почитает книжку на сон грядущий и поможет
заснуть? А иногда такой пролетарий посылается в ближайший город за покупкой, поможет
по хозяйству — не самим же мыкаться!
Тарантьев делал много шума, выводил Обломова из неподвижности и скуки. Он
кричал, спорил и составлял род какого-то спектакля, избавляя ленивого барина самого от
необходимости говорить и делать. В комнату, где царствовал сон и покой, Тарантьев
приносил жизнь, движение, а иногда и вести извне. Обломов мог слушать, смотреть, не
шевеля пальцем, на что-то бойкое, движущееся и говорящее перед ним. Кроме того, он еще
имел простодушие верить, что Тарантьев в самом деле способен посоветовать ему
что-нибудь путное. Посещения Алексеева Обломов терпел по другой, не менее важной
причине. Если он хотел жить по-своему, то есть лежать молча, дремать или ходить по
комнате, Алексеева как будто не было тут: он тоже молчал, дремал или смотрел в книгу,
разглядывал с ленивой зевотой до слез картинки и вещицы. Он мог так пробыть хоть трои
сутки. Если же Обломову наскучивало быть одному и он чувствовал потребность
выразиться, говорить, читать, рассуждать, проявить волнение, — тут был всегда покорный и
готовый слушатель и участник, разделявший одинаково согласно и его молчание, и его
разговор, и волнение, и образ мыслей, каков бы он ни был.
Другие гости заходили не часто, на минуту, как первые три гостя, с ними со всеми все
более и более порывались живые связи. Обломов иногда интересовался какою-нибудь
новостью, пятиминутным разговором, потом, удовлетворенный этим, молчал. Им надо было
платить взаимностью, принимать участие в том, что их интересовало. Они купались в
людской толпе, всякий понимал жизнь по-своему, как не хотел понимать ее Обломов, а они
путали в нее и его: все это не нравилось ему, отталкивало его, было ему не по душе.
Был ему по сердцу один человек: тот тоже не давал ему покоя, он любил и новости, и
свет, и науку, и всю жизнь, но как-то глубже, искреннее — и Обломов хотя был ласков со
всеми, но любил искренне его одного, верил ему одному, может быть потому, что рос,
учился и жил с ним вместе. Это Андрей Иванович Штольц.
Он был в отлучке, но Обломов ждал его с часу на час.
IV
— Здравствуй, земляк, — отрывисто сказал Тарантьев, протягивая мохнатую руку к
Обломову. — Чего ты это лежишь по сю пору, как колода?
— Не подходи, не подходи: ты с холода! — говорил Обломов, прикрываясь одеялом.
— Вот еще — что выдумал — с холода! — заголосил Тарантьев. — Ну, ну, бери руку,
коли дают! Скоро двенадцать часов, а он валяется!
Он хотел приподнять Обломова с постели, но тот предупредил его, опустив быстро
ноги и сразу попав ими в обе туфли.
— Я сам сейчас хотел вставать, — сказал он зевая.
— Знаю я, как ты встаешь: ты бы тут до обеда провалялся. Эй, Захар! Где ты там,
старый дурак? Давай скорей одеваться барину.
— А вы заведите-ка прежде своего Захара, да и лайтесь тогда! — заговорил Захар,
войдя в комнату и злобно поглядывая на Тарантьева. — Вон натоптали как, словно