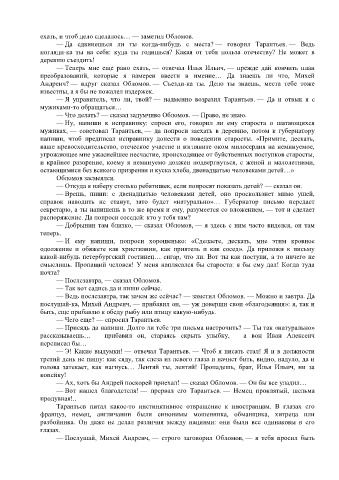Page 27 - Обломов
P. 27
ехать, и чтоб дело сделалось… — заметил Обломов.
— Да сдвинешься ли ты когда-нибудь с места? — говорил Тарантьев. — Ведь
погляди-ка ты на себя: куда ты годишься? Какая от тебя польза отечеству? Не может в
деревню съездить!
— Теперь мне еще рано ехать, — отвечал Илья Ильич, — прежде дай кончить план
преобразований, которые я намерен ввести в имение… Да знаешь ли что, Михей
Андреич? — вдруг сказал Обломов. — Съезди-ка ты. Дело ты знаешь, места тебе тоже
известны, а я бы не пожалел издержек.
— Я управитель, что ли, твой? — надменно возразил Тарантьев. — Да и отвык я с
мужиками-то обращаться…
— Что делать? — сказал задумчиво Обломов. — Право, не знаю.
— Ну, напиши к исправнику: спроси его, говорил ли ему староста о шатающихся
мужиках, — советовал Тарантьев, — да попроси заехать в деревню, потом к губернатору
напиши, чтоб предписал исправнику донести о поведении старосты. «Примите, дескать,
ваше превосходительство, отеческое участие и взгляните оком милосердия на неминуемое,
угрожающее мне ужаснейшее несчастие, происходящее от буйственных поступков старосты,
и крайнее разорение, коему я неминуемо должен подвергнуться, с женой и малолетними,
остающимися без всякого призрения и куска хлеба, двенадцатью человеками детей…»
Обломов засмеялся.
— Откуда я наберу столько ребятишек, если попросят показать детей? — сказал он.
— Врешь, пиши: с двенадцатью человеками детей, оно проскользнет мимо ушей,
справок наводить не станут, зато будет «натурально»… Губернатор письмо передаст
секретарю, а ты напишешь в то же время и ему, разумеется со вложением, — тот и сделает
распоряжение. Да попроси соседей: кто у тебя там?
— Добрынин там близко, — сказал Обломов, — я здесь с ним часто виделся, он там
теперь.
— И ему напиши, попроси хорошенько: «Сделаете, дескать, мне этим кровное
одолжение и обяжете как христианин, как приятель и как сосед». Да приложи к письму
какой-нибудь петербургский гостинец… сигар, что ли. Вот ты как поступи, а то ничего не
смыслишь. Пропащий человек! У меня наплясался бы староста: я бы ему дал! Когда туда
почта?
— Послезавтра, — сказал Обломов.
— Так вот садись да и пиши сейчас.
— Ведь послезавтра, так зачем же сейчас? — заметил Обломов. — Можно и завтра. Да
послушай-ка, Михей Андреич, — прибавил он, — уж доверши свои «благодеяния»: я, так и
быть, еще прибавлю к обеду рыбу или птицу какую-нибудь.
— Чего еще? — спросил Тарантьев.
— Присядь да напиши. Долго ли тебе три письма настрочить? — Ты так «натурально»
рассказываешь… — прибавил он, стараясь скрыть улыбку, — а вон Иван Алексеич
переписал бы…
— Э! Какие выдумки! — отвечал Тарантьев. — Чтоб я писать стал! Я и в должности
третий день не пишу: как сяду, так слеза из левого глаза и начнет бить, видно, надуло, да и
голова затекает, как нагнусь… Лентяй ты, лентяй! Пропадешь, брат, Илья Ильич, ни за
копейку!
— Ах, хоть бы Андрей поскорей приехал! — сказал Обломов. — Он бы все уладил…
— Вот нашел благодетеля! — прервал его Тарантьев. — Немец проклятый, шельма
продувная!..
Тарантьев питал какое-то инстинктивное отвращение к иностранцам. В глазах его
француз, немец, англичанин были синонимы мошенника, обманщика, хитреца или
разбойника. Он даже не делал различия между нациями: они были все одинаковы в его
глазах.
— Послушай, Михей Андреич, — строго заговорил Обломов, — я тебя просил быть