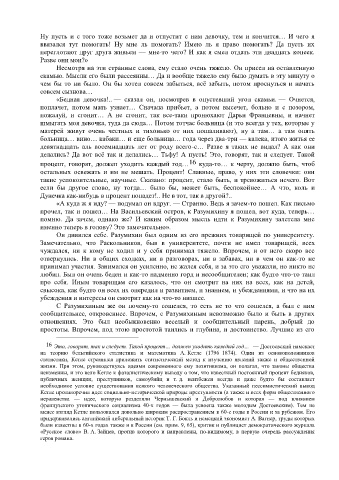Page 42 - Преступление и наказание
P. 42
Ну пусть и с того тоже возьмет да и отпустит с ним девочку, тем и кончится… И чего я
ввязался тут помогать! Ну мне ль помогать? Имею ль я право помогать? Да пусть их
переглотают друг друга живьем — мне-то чего? И как я смел отдать эти двадцать копеек.
Разве они мои?»
Несмотря на эти странные слова, ему стало очень тяжело. Он присел на оставленную
скамью. Мысли его были рассеянны… Да и вообще тяжело ему было думать в эту минуту о
чем бы то ни было. Он бы хотел совсем забыться, всё забыть, потом проснуться и начать
совсем сызнова…
«Бедная девочка!.. — сказал он, посмотрев в опустевший угол скамьи. — Очнется,
поплачет, потом мать узнает… Сначала прибьет, а потом высечет, больно и с позором,
пожалуй, и сгонит… А не сгонит, так все-таки пронюхают Дарьи Францевны, и начнет
шмыгать моя девочка, туда да сюда… Потом тотчас больница (и это всегда у тех, которые у
матерей живут очень честных и тихонько от них пошаливают), ну а там… а там опять
больница… вино… кабаки… и еще больница… года через два-три — калека, итого житья ее
девятнадцать аль восемнадцать лет от роду всего-с… Разве я таких не видал? А как они
делались? Да вот всё так и делались… Тьфу! А пусть! Это, говорят, так и следует. Такой
процент, говорят, должен уходить каждый год… 16 куда-то… к черту, должно быть, чтоб
остальных освежать и им не мешать. Процент! Славные, право, у них эти словечки: они
такие успокоительные, научные. Сказано: процент, стало быть, и тревожиться нечего. Вот
если бы другое слово, ну тогда… было бы, может быть, беспокойнее… А что, коль и
Дунечка как-нибудь в процент попадет!.. Не в тот, так в другой?..
«А куда ж я иду? — подумал он вдруг. — Странно. Ведь я зачем-то пошел. Как письмо
прочел, так и пошел… На Васильевский остров, к Разумихину я пошел, вот куда, теперь…
помню. Да зачем, однако же? И каким образом мысль идти к Разумихину залетела мне
именно теперь в голову? Это замечательно».
Он дивился себе. Разумихин был одним из его прежних товарищей по университету.
Замечательно, что Раскольников, быв в университете, почти не имел товарищей, всех
чуждался, ни к кому не ходил и у себя принимал тяжело. Впрочем, и от него скоро все
отвернулись. Ни в общих сходках, ни в разговорах, ни в забавах, ни в чем он как-то не
принимал участия. Занимался он усиленно, не жалея себя, и за это его уважали, но никто не
любил. Был он очень беден и как-то надменно горд и несообщителен; как будто что-то таил
про себя. Иным товарищам его казалось, что он смотрит на них на всех, как на детей,
свысока, как будто он всех их опередил и развитием, и знанием, и убеждениями, и что на их
убеждения и интересы он смотрит как на что-то низшее.
С Разумихиным же он почему-то сошелся, то есть не то что сошелся, а был с ним
сообщительнее, откровеннее. Впрочем, с Разумихиным невозможно было и быть в других
отношениях. Это был необыкновенно веселый и сообщительный парень, добрый до
простоты. Впрочем, под этою простотой таились и глубина, и достоинство. Лучшие из его
16 Это, говорят, так и следует. Такой процент… должен уходить каждый год… — Достоевский намекает
на теорию бельгийского статистика и математика А. Кетле (1796–1874). Один из основоположников
статистики, Кетле стремился приложить статистический метод к изучению явлений также и общественной
жизни. При этом, руководствуясь идеями современного ему позитивизма, он полагал, что законы общества
неизменны, и это вело Кетле к фаталистическому выводу о том, что известный постоянный процент бедняков,
публичных женщин, преступников, самоубийц и т. д. неизбежен всегда и даже будто бы составляет
необходимое условие существования всякого человеческого общества. Указанный пессимистический вывод
Кетле противоречил идее социально-исторической природы преступности (а также и всех форм общественного
неравенства — идее, которую разделяли Чернышевский и Добролюбов и которая — под влиянием
французского утопического социализма 40-х годов — была усвоена также молодым Достоевским). Тем не
менее взгляд Кетле пользовался довольно широким распространением в 60-е годы в России и за рубежом. Его
придерживались английский либеральный историк Т. Г. Бокль и немецкий экономист А. Вагнер, труды которых
были известны в 60-х годах также и в России (см. прим. 9, 65), критик и публицист демократического журнала
«Русское слово» В. А. Зайцев, против которого и направлены, по-видимому, в первую очередь рассуждения
героя романа.