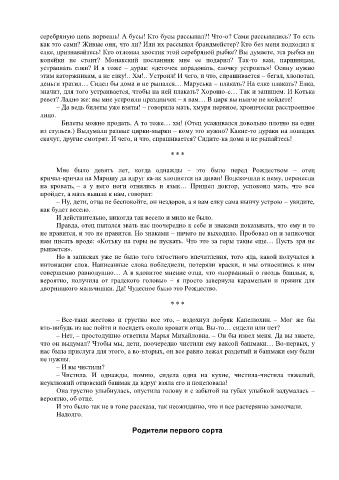Page 165 - Рассказы
P. 165
серебряную цепь порвешь! А бусы! Кто бусы рассыпал?! Что-о? Сами рассыпались? То есть
как это сами? Живые они, что ли? Или их рассыпал брандмейстер? Кто без меня подходил к
елке, признавайтесь! Кто отломал хвостик этой серебряной рыбке? Вы думаете, эта рыбка ни
копейки не стоит? Монакский посланник мне ее подарил? Так-то вам, паршивцам,
устраивать елки? И я тоже – дурак: «деточек порадовать, елочку устроить»! Осину нужно
этим каторжникам, а не елку!.. Хм!.. Устроил! И чего, и что, спрашивается – бегал, хлопотал,
деньги тратил… Сидел бы дома и не рыпался… Маруська – плакать? На елке плакать? Елка,
значит, для того устраивается, чтобы на ней плакать? Хорошо-с… Так и запишем. И Котька
ревет? Ладно же: вы мне устроили праздничек – я вам… В цирк вы нынче не пойдете!
– Да ведь билеты уже взяты! – говорила мать, хмуря нервное, хронически расстроенное
лицо.
– Билеты можно продать. А то тоже… хм! (Отец усаживался довольно плотно на один
из стульев.) Выдумали разные цирки-мырки – кому это нужно? Какие-то дураки на лошадях
скачут, другие смотрят. И чего, и что, спрашивается? Сидите-ка дома и не рыпайтесь!
* * *
Мне было девять лет, когда однажды – это было перед Рождеством – отец
кричал-кричал на Маришу да вдруг ка-ак хлопнется на диван! Подскочили к нему, перенесли
на кровать, – а у него ноги отнялись и язык… Пришел доктор, успокоил мать, что все
пройдет, а мать вышла к нам, говорит:
– Ну, дети, отца не беспокойте, он нездоров, а я вам елку сама нынчу устрою – увидите,
как будет весело.
И действительно, никогда так весело и мило не было.
Правда, отец пытался звать нас поочередно к себе и знаками показывать, что ему и то
не нравится, и это не нравится. Но знаками – ничего не выходило. Пробовал он и записочки
нам писать вроде: «Котьку на горы не пускать. Что это за горы такие еще… Пусть зря не
рыпается».
Но в записках уже не было того тягостного впечатления, того яда, какой получался в
интонации слов. Написанные слова побледнели, потеряли краски, и мы относились к ним
совершенно равнодушно… А в ядовитое мнение отца, что «порванный о гвоздь башлык, я,
вероятно, получила от градского головы» – я просто завернула карамельки и пряник для
дворницкого мальчишки. Да! Чудесное было это Рождество.
* * *
– Все-таки жестоко и грустно все это, – вздохнул добряк Капелюхин. – Мог же бы
кто-нибудь из вас пойти и посидеть около кровати отца. Вы-то… сидели или нет?
– Нет, – простодушно ответила Марья Михайловна. – Он бы извел меня. Да вы знаете,
что он выдумал? Чтобы мы, дети, поочередно чистили ему ваксой башмаки… Во-первых, у
нас была прислуга для этого, а во-вторых, он все равно лежал раздетый и башмаки ему были
не нужны.
– И вы чистили?
– Чистила. И однажды, помню, сидела одна на кухне, чистила-чистила тяжелый,
неуклюжий отцовский башмак да вдруг взяла его и поцеловала!
Она грустно улыбнулась, опустила голову и с забытой на губах улыбкой задумалась –
вероятно, об отце.
И это было так не в тоне рассказа, так неожиданно, что и все растерянно замолчали.
Надолго.
Родители первого сорта