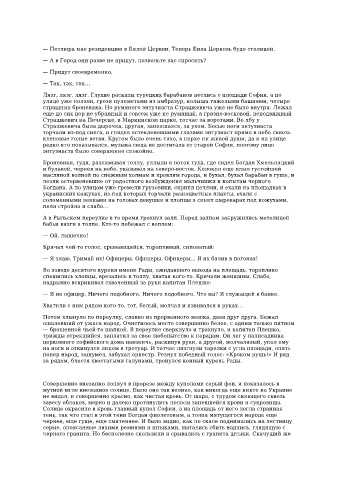Page 135 - Белая гвардия
P. 135
— Петлюра мае резиденцию в Билой Церкви. Теперь Била Церковь буде столицей.
— А в Город они разве не придут, позвольте вас спросить?
— Придут своевременно.
— Так, так, так…
Лязг, лязг, лязг. Глухие раскаты турецких барабанов неслись с площади Софии, а по
улице уже ползли, грозя пулеметами из амбразур, колыша тяжелыми башнями, четыре
страшных броневика. Но румяного энтузиаста Страшкевича уже не было внутри. Лежал
еще до сих пор не убранный и совсем уже не румяный, а грязно-восковой, неподвижный
Страшкевич на Печерске, в Мариинском парке, тотчас за воротами. Во лбу у
Страшкевича была дырочка, другая, запекшаяся, за ухом. Босые ноги энтузиаста
торчали из-под снега, и глядел остекленевшими глазами энтузиаст прямо в небо сквозь
кленовые голые ветви. Кругом было очень тихо, в парке ни живой души, да и на улице
редко кто показывался, музыка сюда не достигала от старой Софии, поэтому лицо
энтузиаста было совершенно спокойно.
Броневики, гудя, разламывая толпу, уплыли в поток туда, где сидел Богдан Хмельницкий
и булавой, чернея на небе, указывал на северо-восток. Колокол еще плыл густейшей
масляной волной по снежным холмам и кровлям города, и бухал, бухал барабан в гуще, и
лезли остервеневшие от радостного возбуждения мальчишки к копытам черного
Богдана. А по улицам уже гремели грузовики, скрипя цепями, и ехали на площадках в
украинских кожухах, из-под которых торчали разноцветные плахты, ехали с
соломенными венками на головах девушки и хлопцы в синих шароварах под кожухами,
пели стройно и слабо…
А в Рыльском переулке в то время грохнул залп. Перед залпом закружились метелицей
бабьи визги в толпе. Кто-то побежал с воплем:
— Ой, лышечко!
Кричал чей-то голос, срывающийся, торопливый, сиповатый:
— Я знаю. Тримай их! Офицеры. Офицеры. Офицеры… Я их бачив в погонах!
Во взводе десятого куреня имени Рады, ожидавшего выхода на площадь, торопливо
спешились хлопцы, врезались в толпу, хватая кого-то. Кричали женщины. Слабо,
надрывно вскрикивал схваченный за руки капитан Плешко:
— Я не офицер. Ничего подобного. Ничего подобного. Что вы? Я служащий в банке.
Хватили с ним рядом кого-то, тот, белый, молчал и извивался в руках…
Потом хлынуло по переулку, словно из прорванного мешка, давя друг друга. Бежал
ошалевший от ужаса народ. Очистилось место совершенно белое, с одним только пятном
— брошенной чьей-то шапкой. В переулке сверкнуло и трахнуло, и капитан Плешко,
трижды отрекшийся, заплатил за свое любопытство к парадам. Он лег у палисадника
церковного софийского дома навзничь, раскинув руки, а другой, молчаливый, упал ему
на ноги и откинулся лицом в тротуар. И тотчас лязгнули тарелки с угла площади, опять
попер народ, зашумел, забухал оркестр. Резнул победный голос: «Кроком рушь!» И ряд
за рядом, блестя хвостатыми галунами, тронулся конный курень Рады.
Совершенно внезапно лопнул в прорезе между куполами серый фон, и показалось в
мутной мгле внезапное солнце. Было оно так велико, как никогда еще никто на Украине
не видал, и совершенно красно, как чистая кровь. От шара, с трудом сияющего сквозь
завесу облаков, мерно и далеко протянулись полосы запекшейся крови и сукровицы.
Солнце окрасило в кровь главный купол Софии, а на площадь от него легла странная
тень, так что стал в этой тени Богдан фиолетовым, а толпа мятущегося народа еще
чернее, еще гуще, еще смятеннее. И было видно, как по скале поднимались на лестницу
серые, опоясанные лихими ремнями и штыками, пытались сбить надпись, глядящую с
черного гранита. Но бесполезно скользили и срывались с гранита штыки. Скачущий же