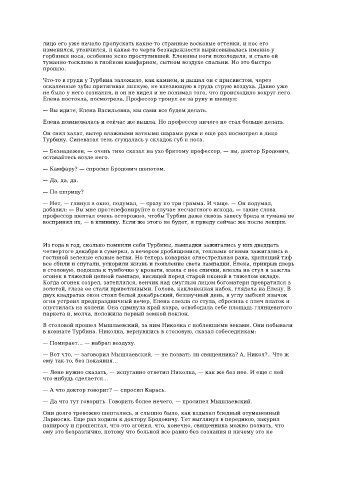Page 149 - Белая гвардия
P. 149
лицо его уже начало пропускать какие-то странные восковые оттенки, и нос его
изменился, утончился, и какая-то черта безнадежности вырисовывалась именно у
горбинки носа, особенно ясно проступившей. Еленины ноги похолодели, и стало ей
туманно-тоскливо в гнойном камфарном, сытном воздухе спальни. Но это быстро
прошло.
Что-то в груди у Турбина заложило, как камнем, и дышал он с присвистом, через
оскаленные зубы притягивая липкую, не влезающую в грудь струю воздуха. Давно уже
не было у него сознания, и он не видел и не понимал того, что происходило вокруг него.
Елена постояла, посмотрела. Профессор тронул ее за руку и шепнул:
— Вы идите, Елена Васильевна, мы сами все будем делать.
Елена повиновалась и сейчас же вышла. Но профессор ничего не стал больше делать.
Он снял халат, вытер влажными ватными шарами руки и еще раз посмотрел в лицо
Турбину. Синеватая тень сгущалась у складок губ и носа.
— Безнадежен, — очень тихо сказал на ухо бритому профессор, — вы, доктор Бродович,
оставайтесь возле него.
— Камфару? — спросил Бродович шепотом.
— Да, да, да.
— По шприцу?
— Нет, — глянул в окно, подумал, — сразу по три грамма. И чаще. — Он подумал,
добавил: — Вы мне протелефонируйте в случае несчастного исхода, — такие слова
профессор шептал очень осторожно, чтобы Турбин даже сквозь завесу бреда и тумана не
воспринял их, — в клинику. Если же этого не будет, я приеду сейчас же после лекции.
Из года в год, сколько помнили себя Турбины, лампадки зажигались у них двадцать
четвертого декабря в сумерки, а вечером дробящимися, теплыми огнями зажигались в
гостиной зеленые еловые ветви. Но теперь коварная огнестрельная рана, хрипящий тиф
все сбили и спутали, ускорили жизнь и появление света лампадки. Елена, прикрыв дверь
в столовую, подошла к тумбочке у кровати, взяла с нее спички, влезла на стул и зажгла
огонек в тяжелой цепной лампаде, висящей перед старой иконой в тяжелом окладе.
Когда огонек созрел, затеплился, венчик над смуглым лицом богоматери превратился в
золотой, глаза ее стали приветливыми. Голова, наклоненная набок, глядела на Елену. В
двух квадратах окон стоял белый декабрьский, беззвучный день, в углу зыбкий язычок
огня устроил предпраздничный вечер, Елена слезла со стула, сбросила с плеч платок и
опустилась на колени. Она сдвинула край ковра, освободила себе площадь глянцевитого
паркета и, молча, положила первый земной поклон.
В столовой прошел Мышлаевский, за ним Николка с поблекшими веками. Они побывали
в комнате Турбина. Николка, вернувшись в столовую, сказал собеседникам:
— Помирает… — набрал воздуху.
— Вот что, — заговорил Мышлаевский, — не позвать ли священника? А, Никол?.. Что ж
ему так-то, без покаяния…
— Лене нужно сказать, — испуганно ответил Николка, — как же без нее. И еще с ней
что-нибудь сделается…
— А что доктор говорит? — спросил Карась.
— Да что тут говорить. Говорить более нечего, — просипел Мышлаевский.
Они долго тревожно шептались, и слышно было, как вздыхал бледный отуманенный
Лариосик. Еще раз ходили к доктору Бродовичу. Тот выглянул в переднюю, закурил
папиросу и прошептал, что это агония, что, конечно, священника можно позвать, что
ему это безразлично, потому что больной все равно без сознания и ничему это не