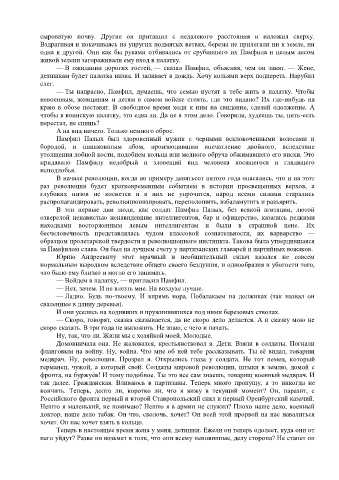Page 203 - Доктор Живаго
P. 203
сыроватую почву. Другие он притащил с недалекого расстояния и наложил сверху.
Вздрагивая и покачиваясь на упругих подмятых ветвях, березы не прилегали ни к земле, ни
одна к другой. Они как бы руками отбивались от срубившего их Памфила и целым лесом
живой зелени загораживали ему вход в палатку.
— В ожидании дорогих гостей, — сказал Памфил, объясняя, чем он занят. — Жене,
детишкам будет палатка низка. И заливает в дождь. Хочу кольями верх подпереть. Нарубил
слег.
— Ты напрасно, Памфил, думаешь, что семью пустят к тебе жить в палатку. Чтобы
невоенным, женщинам и детям в самом войске стоять, где это видано? Их где-нибудь на
краю в обозе поставят. В свободное время ходи к ним на свидание, сделай одолжение. А
чтобы в воинскую палатку, это едва ли. Да не в этом дело. Говорили, худеешь ты, пить-есть
перестал, не спишь?
А на вид ничего. Только немного оброс.
Памфил Палых был здоровенный мужик с черными всклокоченными волосами и
бородой, и шишковатым лбом, производившим впечатление двойного, вследствие
утолщения лобной кости, подобием кольца или медного обруча обжимавшего его виски. Это
придавало Памфилу недобрый и зловещий вид человека косящегося и глядящего
исподлобья.
В начале революции, когда по примеру девятьсот пятого года опасались, что и на этот
раз революция будет кратковременным событием в истории просвещенных верхов, а
глубоких низов не коснется и в них не упрочится, народ всеми силами старались
распропагандировать, революционизировать, переполошить, взбаламутить и разъярить.
В эти первые дни люди, как солдат Памфил Палых, без всякой агитации, лютой
озверелой ненавистью ненавидевшие интеллигентов, бар и офицерство, казались редкими
находками восторженным левым интеллигентам и были в страшной цене. Их
бесчеловечность представлялась чудом классовой сознательности, их варварство —
образцом пролетарской твердости и революционного инстинкта. Такова была утвердившаяся
за Памфилом слава. Он был на лучшем счету у партизанских главарей и партийных вожаков.
Юрию Андреевичу этот мрачный и необщительный силач казался не совсем
нормальным выродком вследствие общего своего бездушия, и однообразия и убогости того,
что было ему близко и могло его занимать.
— Войдем в палатку, — пригласил Памфил.
— Нет, зачем. И не влезть мне. На воздухе лучше.
— Ладно. Будь по-твоему. И впрямь нора. Побалакаем на должиках (так назвал он
сваленные в длину деревья).
И они уселись на ходивших и пружинившихся под ними березовых стволах.
— Скоро, говорят, сказка сказывается, да не скоро дело делается. А и сказку мою не
скоро сказать. В три года не выложить. Не знаю, с чего и начать.
Ну, так, что ли. Жили мы с хозяйкой моей. Молодые.
Домовничала она. Не жаловался, крестьянствовал я. Дети. Взяли в солдаты. Погнали
фланговым на войну. Ну, война. Что мне об ней тебе рассказывать. Ты её видал, товарищ
медврач. Ну, революция. Прозрел я. Открылись глаза у солдата. Не тот немец, который
германец, чужой, а который свой. Солдаты мировой революции, штыки в землю, домой с
фронта, на буржуёв! И тому подобное. Ты это все сам знаешь, товарищ военный медврач. И
так далее. Гражданская. Вливаюсь в партизаны. Теперь много пропущу, а то никогда не
кончить. Теперь, долго ли, коротко ли, что я вижу в текущий момент? Он, паразит, с
Российского фронта первый и второй Ставропольский снял и первый Оренбургский казачий.
Нешто я маленький, не понимаю? Нешто я в армии не служил? Плохо наше дело, военный
доктор, наше дело табак. Он что, сволочь, хочет? Он всей этой прорвой на нас навалиться
хочет. Он нас хочет взять в кольцо.
Теперь в настоящее время жена у меня, детишки. Ежели он теперь одолеет, куда они от
него уйдут? Разве он возьмет в толк, что они всему неповинные, делу сторона? Не станет он