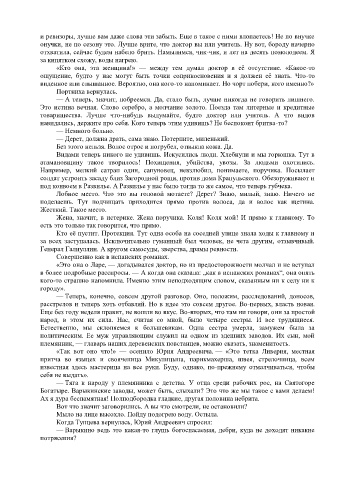Page 224 - Доктор Живаго
P. 224
и ревизоры, лучше вам даже слова эти забыть. Еще в такое с ними влопаетесь! Не по внучке
онучки, не по сезону это. Лучше врите, что доктор вы или учитель. Ну вот, бороду начерно
отхватила, сейчас будем набело брить. Намылимся, чик-чик, и лет на десять помолодеем. Я
за кипятком схожу, воды нагрею.
«Кто она, эта женщина!» — между тем думал доктор в её отсутствие. «Какое-то
ощущение, будто у нас могут быть точки соприкосновения и я должен её знать. Что-то
виденное или слышанное. Вероятно, она кого-то напоминает. Но чорт побери, кого именно?»
Портниха вернулась.
— А теперь, значит, побреемся. Да, стало быть, лучше никогда не говорить лишнего.
Это истина вечная. Слово серебро, а молчание золото. Поезда там литерные и кредитные
товарищества. Лучше что-нибудь выдумайте, будто доктор или учитель. А что видов
навидались, держите про себя. Кого теперь этим удивишь? Не беспокоит бритва-то?
— Немного больно.
— Дерет, должна драть, сама знаю. Потерпите, миленький.
Без этого нельзя. Волос отрос и погрубел, отвыкла кожа. Да.
Видами теперь никого не удивишь. Искусились люди. Хлебнули и мы горюшка. Тут в
атамановщину такое творилось! Похищения, убийства, увозы. За людьми охотились.
Например, мелкий сатрап один, сапуновец, невзлюбил, понимаете, поручика. Посылает
солдат устроить засаду близ Загородной рощи, против дома Крапульского. Обезоруживают и
под конвоем в Развилье. А Развилье у нас было тогда то же самое, что теперь губчека.
Лобное место. Что это вы головой мотаете? Дерет? Знаю, милый, знаю. Ничего не
поделаешь. Тут подчищать приходится прямо против волоса, да и волос как щетина.
Жесткий. Такое место.
Жена, значит, в истерике. Жена поручика. Коля! Коля мой! И прямо к главному. То
есть это только так говорится, что прямо.
Кто её пустит. Протекция. Тут одна особа на соседней улице знала ходы к главному и
за всех заступалась. Исключительно гуманный был человек, не чета другим, отзывчивый.
Генерал Галиуллин. А кругом самосуды, зверства, драмы ревности.
Совершенно как в испанских романах.
«Это она о Ларе, — догадывался доктор, но из предосторожности молчал и не вступал
в более подробные расспросы. — А когда она сказала: „как в испанских романах“, она опять
кого-то страшно напомнила. Именно этим неподходящим словом, сказанным ни к селу ни к
городу».
— Теперь, конечно, совсем другой разговор. Оно, положим, расследований, доносов,
расстрелов и теперь хоть отбавляй. Но в идее это совсем другое. Во-первых, власть новая.
Еще без году неделя правит, не вошли во вкус. Во-вторых, что там ни говори, они за простой
народ, в этом их сила. Нас, считая со мной, было четыре сестры. И все трудящиеся.
Естественно, мы склоняемся к большевикам. Одна сестра умерла, замужем была за
политическим. Ее муж управляющим служил на одном из здешних заводов. Их сын, мой
племянник, — главарь наших деревенских повстанцев, можно сказать, знаменитость.
«Так вот оно что!» — осенило Юрия Андреевича. — «Это тетка Ливерия, местная
притча во языцех и свояченица Микулицына, парикмахерша, швея, стрелочница, всем
известная здесь мастерица на все руки. Буду, однако, по-прежнему отмалчиваться, чтобы
себя не выдать».
— Тяга к народу у племянника с детства. У отца среди рабочих рос, на Святогоре
Богатыре. Варыкинские заводы, может быть, слыхали? Это что же мы такое с вами делаем!
Ах я дура беспамятная! Полподбородка гладкие, другая половина небрита.
Вот что значит заговорились. А вы что смотрели, не остановили?
Мыло на лице высохло. Пойду подогрею воду. Остыла.
Когда Тунцева вернулась, Юрий Андреевич спросил:
— Варыкино ведь это какая-то глушь богоспасаемая, дебри, куда не доходят никакие
потрясения?