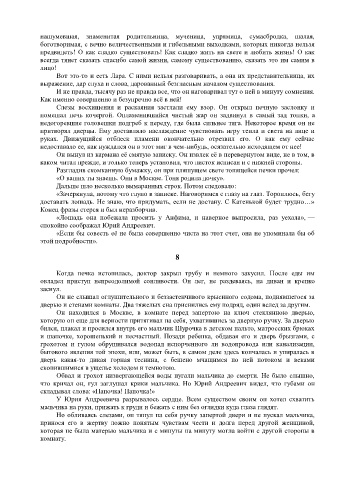Page 227 - Доктор Живаго
P. 227
нашумевшая, знаменитая родительница, мученица, упрямица, сумасбродка, шалая,
боготворимая, с вечно величественными и гибельными выходками, которых никогда нельзя
предвидеть! О как сладко существовать! Как сладко жить на свете и любить жизнь! О как
всегда тянет сказать спасибо самой жизни, самому существованию, сказать это им самим в
лицо!
Вот это-то и есть Лара. С ними нельзя разговаривать, а она их представительница, их
выражение, дар слуха и слова, дарованный безгласным началом существования.
И не правда, тысячу раз не правда все, что он наговаривал тут о ней в минуту сомнения.
Как именно совершенно и безупречно всё в ней!
Слезы восхищения и раскаяния застлали ему взор. Он открыл печную заслонку и
помешал печь кочергой. Опламенившийся чистый жар он задвинул в самый зад топки, а
недогоревшие головешки подгреб к переду, где была сильнее тяга. Некоторое время он не
притворял дверцы. Ему доставляло наслаждение чувствовать игру тепла и света на лице и
руках. Движущийся отблеск пламени окончательно отрезвил его. О как ему сейчас
недоставало ее, как нуждался он в этот миг в чем-нибудь, осязательно исходящем от нее!
Он вынул из кармана её смятую записку. Он извлек её в перевернутом виде, не в том, в
каком читал прежде, и только теперь установил, что листок исписан и с нижней стороны.
Разгладив скомканную бумажку, он при пляшущем свете топящейся печки прочел:
«О ваших ты знаешь. Они в Москве. Тоня родила дочку».
Дальше шло несколько вымаранных строк. Потом следовало:
«Зачеркнула, потому что глупо в записке. Наговоримся с глазу на глаз. Тороплюсь, бегу
доставать лошадь. Не знаю, что придумать, если не достану. С Катенькой будет трудно…»
Конец фразы стерся и был неразборчив.
«Лошадь она побежала просить у Анфима, и наверное выпросила, раз уехала», —
спокойно соображал Юрий Андреевич.
«Если бы совесть её не была совершенно чиста на этот счет, она не упоминала бы об
этой подробности».
8
Когда печка истопилась, доктор закрыл трубу и немного закусил. После еды им
овладел приступ непреодолимой сонливости. Он лег, не раздеваясь, на диван и крепко
заснул.
Он не слышал оглушительного и беззастенчивого крысиного содома, поднявшегося за
дверью и стенами комнаты. Два тяжелых сна приснились ему подряд, один вслед за другим.
Он находился в Москве, в комнате перед запертою на ключ стеклянною дверью,
которую он еще для верности притягивал на себя, ухватившись за дверную ручку. За дверью
бился, плакал и просился внутрь его мальчик Шурочка в детском пальто, матросских брюках
и шапочке, хорошенький и несчастный. Позади ребенка, обдавая его и дверь брызгами, с
грохотом и гулом обрушивался водопад испорченного ли водопровода или канализации,
бытового явления той эпохи, или, может быть, в самом деле здесь кончалась и упиралась в
дверь какая-то дикая горная теснина, с бешено мчащимся по ней потоком и веками
скопившимися в ущелье холодом и темнотою.
Обвал и грохот низвергающейся воды пугали мальчика до смерти. Не было слышно,
что кричал он, гул заглушал крики мальчика. Но Юрий Андреевич видел, что губами он
складывал слова: «Папочка! Папочка!»
У Юрия Андреевича разрывалось сердце. Всем существом своим он хотел схватить
мальчика на руки, прижать к груди и бежать с ним без оглядки куда глаза глядят.
Но обливаясь слезами, он тянул на себя ручку запертой двери и не пускал мальчика,
принося его в жертву ложно понятым чувствам чести и долга перед другой женщиной,
которая не была матерью мальчика и с минуты на минуту могла войти с другой стороны в
комнату.