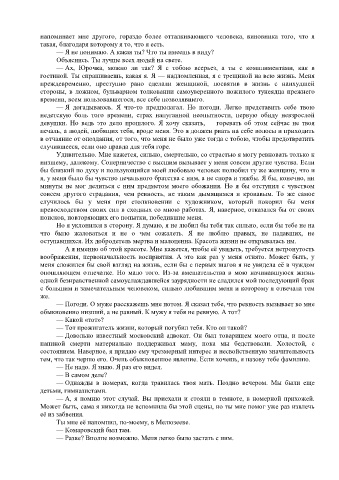Page 231 - Доктор Живаго
P. 231
напоминает мне другого, гораздо более отталкивающего человека, виновника того, что я
такая, благодаря которому я то, что я есть.
— Я не понимаю. А какая ты? Что ты имеешь в виду?
Объяснись. Ты лучше всех людей на свете.
— Ах, Юрочка, можно ли так? Я с тобою всерьез, а ты с комплиментами, как в
гостиной. Ты спрашиваешь, какая я. Я — надломленная, я с трещиной на всю жизнь. Меня
преждевременно, преступно рано сделали женщиной, посвятив в жизнь с наихудшей
стороны, в ложном, бульварном толковании самоуверенного пожилого тунеядца прежнего
времени, всем пользовавшегося, все себе позволявшего.
— Я догадываюсь. Я что-то предполагал. Но погоди. Легко представить себе твою
недетскую боль того времени, страх напуганной неопытности, первую обиду невзрослой
девушки. Но ведь это дело прошлого. Я хочу сказать, — горевать об этом сейчас не твоя
печаль, а людей, любящих тебя, вроде меня. Это я должен рвать на себе волосы и приходить
в отчаяние от опоздания, от того, что меня не было уже тогда с тобою, чтобы предотвратить
случившееся, если оно правда для тебя горе.
Удивительно. Мне кажется, сильно, смертельно, со страстью я могу ревновать только к
низшему, далекому. Соперничество с высшим вызывает у меня совсем другие чувства. Если
бы близкий по духу и пользующийся моей любовью человек полюбил ту же женщину, что и
я, у меня было бы чувство печального братства с ним, а не спора и тяжбы. Я бы, конечно, ни
минуты не мог делиться с ним предметом моего обожания. Но я бы отступил с чувством
совсем другого страдания, чем ревность, не таким дымящимся и кровавым. То же самое
случилось бы у меня при столкновении с художником, который покорил бы меня
превосходством своих сил в сходных со мною работах. Я, наверное, отказался бы от своих
поисков, повторяющих его попытки, победившие меня.
Но я уклонился в сторону. Я думаю, я не любил бы тебя так сильно, если бы тебе не на
что было жаловаться и не о чем сожалеть. Я не люблю правых, не падавших, не
оступавшихся. Их добродетель мертва и малоценна. Красота жизни не открывалась им.
— А я именно об этой красоте. Мне кажется, чтобы её увидеть, требуется нетронутость
воображения, первоначальность восприятия. А это как раз у меня отнято. Может быть, у
меня сложился бы свой взгляд на жизнь, если бы с первых шагов я не увидела её в чуждом
опошляющем отпечатке. Но мало того. Из-за вмешательства в мою начинавшуюся жизнь
одной безнравственной самоуслаждавшейся заурядности не сладился мой последующий брак
с большим и замечательным человеком, сильно любившим меня и которому я отвечала тем
же.
— Погоди. О муже расскажешь мне потом. Я сказал тебе, что ревность вызывает во мне
обыкновенно низший, а не равный. К мужу я тебя не ревную. А тот?
— Какой «тот»?
— Тот прожигатель жизни, который погубил тебя. Кто он такой?
— Довольно известный московский адвокат. Он был товарищем моего отца, и после
папиной смерти материально поддерживал маму, пока мы бедствовали. Холостой, с
состоянием. Наверное, я придаю ему чрезмерный интерес и несвойственную значительность
тем, что так черню его. Очень обыкновенное явление. Если хочешь, я назову тебе фамилию.
— Не надо. Я знаю. Я раз его видел.
— В самом деле?
— Однажды в номерах, когда травилась твоя мать. Поздно вечером. Мы были еще
детьми, гимназистами.
— А, я помню этот случай. Вы приехали и стояли в темноте, в номерной прихожей.
Может быть, сама я никогда не вспомнила бы этой сцены, но ты мне помог уже раз извлечь
её из забвения.
Ты мне её напомнил, по-моему, в Мелюзееве.
— Комаровский был там.
— Разве? Вполне возможно. Меня легко было застать с ним.